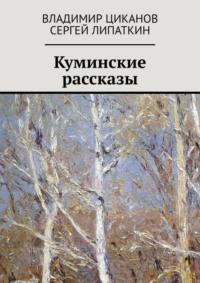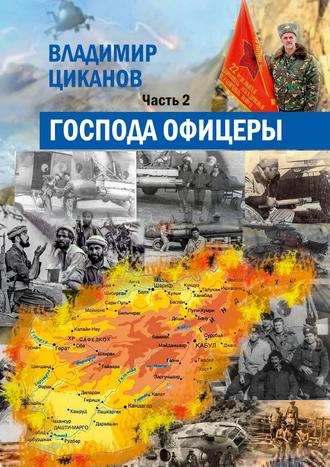
Полная версия
Господа офицеры. Часть вторая
Далее, если в двух словах: Василий Андреевич Лебедь и Козлов Валерий Петрович были прекрасными порядочными людьми, смелыми и надёжными боевыми товарищами, отличными профессиональными лётчиками. Сама жизнь и судьба успели к тому времени незаслуженно побить их обоих. К тому времени они оба, как никто другой, знали, что такое Жизнь и что такое Смерть! А в исправлении кривой судьбы обоих этих людей, лётчиков-пограничников, принимал самое прямое и непосредственное участие Виктор Григорьевич Захаров, ставший впоследствии общим нашим командиром.
Я, конечно же, не мог знать и даже предполагать, что имел в виду Василий Андреевич сказанной в эфир фразой «Держись, Володя!» Но у меня в сознании вдруг сразу появились фантастические ассоциации и аллегории. Как будто бы рядом со мной на правом сидении в качестве лётчика-инструктора в нашем экипаже сидит полковник Тимофеев и орёт так, что ему не надо даже и на кнопку СПУ нажимать ― и так всё слышно! Не слышно ни как работают двигатели, ни как шумят винты, а слышен только его крик: «Ты что?.. Такую-то мать!.. За ручку как за ху* держишься! Вцепился за неё как баба за …!» Ручка – это имеется в виду РУ ― ручка управления. Она является одним из основных органов управления в вертолёте. Когда мы учились в училище и проходили высшую математику, то бывалые лётчики-инструкторы нам в шутку говорили: «К концу вашей службы всё, что вы будете помнить из курса высшей математики, так это то, что интеграл похож на ручку управления». Действительно, ручка управления по своей форме похожа на эту «закорючку» в высшей математике, только в увеличенном виде. А вот то, что она была похожа ещё и на предметы, с которыми её сравнивал Александр Иванович Тимофеев, мы услышали в первый раз только от него самого. Ну, окончание этой ручки управления, собственно, за что держится лётчик, представляет собой шершавую резную округлённую поверхность, сделанную специально так, чтобы рука не скользила по ней, даже если она потеет. На самой макушке шершавой округлой рукояти расположены различные кнопочки, в том числе и кнопка пуска неуправляемых ракет. Эта кнопка закрыта массивным красным предохранительным колпачком, чтобы случайно не нажать на неё, тем самым произведя непреднамеренный пуск ракет.
В общем, при достаточно буйной фантазии, наверное, в далёком приближении можно было себе представить чисто мужской предмет, с которым ручку управления сравнивал Александр Иванович.
Полковник Тимофеев продолжал орать в моём сознании: «Ручка – это же она! Женский род! Надо представлять себе совсем не то, что ты думаешь! Надо держаться за неё плавно, мягко и любя! Как за п.…! Ты меня слышишь?!»
Подобные слова из уст Александра Ивановича были не фантазией в моём больном воображении! Где-то так или даже точно так, иногда почти слово в слово, объяснял полковник Тимофеев тонкости управления вертолётом всем молодым лётчикам, летавшим с ним. Фантазией в тот момент было только моё видение, что Александр Иванович вдруг, откуда ни возьмись, появился на правом сидении… Остальное всё было чистой правдой, которая на самом деле существовала в реальной действительности…
Если конец ручки управления и можно было в моём сознании как-то сопоставить с мужским половым органом, на который доходчиво ссылался Александр Иванович, то с женским у меня почему-то никаких ассоциаций не возникало. И от этого мне всегда, когда мы летали вместе с Тимофеевым, становилось смешно! А тут после услышанного от Лебедя «Держись, Володя!» от всех плывущих в моём мозгу фантастических аллегорий меня разобрал просто невероятный смех. Я никак не мог удержать его, накатывающий приступами и неудержимыми волнами, он рвался из меня… Этот смех, кажется, всё-таки вырывался из меня наружу, выплёскиваясь, как из переполненной водой чаши при сильном землетрясении… Сдержаться было невозможно!
Я с иронией думал: «Хоть в мыслях в последний миг своей жизни подержаться за это дело…» От этого смех только усиливался… Как ни странно, именно в этот момент ко мне в сознание пришло и решение, и невероятная уверенность во всех моих последующих действиях. Я нажал кнопку «радио» и доложил в эфир: «Наше решение – тянем до Бахарака! Там – … пробовать садиться!» Мы все знали, что именно в Бахараке, где базировался мотострелковый батальон нашей Советской Армии, есть единственная на всю округу более или менее подходящая площадка для аварийной посадки вертолёта с одним работающим двигателем. Она имела искусственное покрытие из специальных металлических плит. Именно она в нашем случае, когда мы были загружены смертоносным грузом, была единственной надеждой на спасение. Вертолёт надо было сажать так, чтобы, не дай Бог, ни одна из мин не сдвинулась с места…
Посадка по-вертолётному, то есть садиться, зависнув над площадкой с последующим плавным касанием земли, при работе только одного двигателя, стопроцентно исключена. Этого было невозможно сделать из-за загруженности вертолёта и высоты площадки 1500 метров над уровнем моря. Высота хоть и была совсем незначительной в сравнении с теми площадками, на которые садились и с которых взлетали мы в тех краях, но работающий правильно только один из двух наших двигателей плюс общая загруженность вертолёта перечёркивали даже гипотетически посадку по-вертолётному.
Посадка по-самолётному была возможна, но она осложнялась спецификой нашего груза. Надо было ухитриться посадить на маленькую площадку вертолёт так, чтобы не было никакого, даже пусть мало-мальски ощутимого удара при касании земли, ни резкого торможения, ни скаканья по кочкам. Ничего этого не должно было быть. Всё это мы все хорошо понимали. Для опытного и классного лётчика при условии полёта на исправном вертолёте, это не составит очень большого труда. Но… Вертолёт наш был не исправен…
В эфире прозвучала команда Козлова: «…Кто первый разгружается, сразу же взлетает и – за 46! И так – поочерёдно, друг за другом на расстоянии видимости! Над Бахараком, кто первым увидит „46“-го, сразу доложить, что там и как». Далее последнее, что я слышал: «До Бахарака, кто доходит, все занимают высоту 4500. Если загораются лампочки, прямо – домой. Парами. На расстоянии видимости друг друга. Возвращаемся в Гульхану все левым кругом4 на 4500. Я ― замыкающий».
Запас топлива всегда рассчитывался нами таким образом, чтобы его хватало впритык ― из-за необходимости взять на борт и перевезти как можно больше груза на этих высотах за счёт уменьшения этого самого запаса. То есть всегда можно взять груза больше пропорционально настолько ― насколько меньше будет топлива. В принципе, это было совсем не страшно и не опасно лететь на аварийном остатке топлива. Только надо было побыстрее ― ноги в руки, и домой. Мы все всегда прилетали в то время «на лампочках». А вообще-то такой полёт считается по документам особым, аварийным случаем. Подобным образом летать нельзя!
В полёте до Бахарака я был сосредоточен исключительно на предстоящей посадке, всё остальное для меня перестало существовать. Я уже никого и ничего не слышал ― мы на своём вертолёте уже строили заход на посадку, были на «прямой»5. Заход осуществлялся сразу по выходу из зардевского ущелья, и посадка мною планировалась на площадку без всяких доворотов и разворотов на посадочный курс. Сразу. Сходу.
Коснуться земли надо было очень-очень плавно и мягко на скорости 50—40 км/ч сначала задними колёсами, затем передними в самом начале самой первой металлической плиты покрытия на площадке. Скорость ― ни больше, ни меньше! Место приземления (касание земли задними колёсами) – точно в первую 30 сантиметровую по своей ширине плиту специального покрытия. Условия обязательной чрезвычайной плавности и мягкости при посадке диктовались наличием специфического груза у нас на борту и его весом. Именно такая скорость при касании земли, вернее, скрупулёзная необходимость её выдерживания и точное приземление объясняются тем, что нельзя было позволить вертолёту выкатиться за пределы искусственного покрытия площадки, требовалось успеть затормозить на самом её краю. Выкатывание за пределы искусственного покрытия площадки могло произойти при неточном приземлении (промахе), или если скорость полёта при приземлении была бы больше. Выкатываться за пределы искусственного покрытия ни в коем случае было нельзя, потому как за краем площадки, покрытой специальными плитами, хоть и была ровная и твёрдая поверхность земли, по которой можно было бы катиться по инерции немного дальше, но все подступы к вертолётной площадке были заминированы. Это была явная смерть! Если же скорость полёта при приземлении держать меньше, то вертикальная составляющая скорости снижения окажется значительно выше и будет недостаточно тяги на винте для плавного касания земли. В общем, точность приземления исходила из того же – не приземлиться на минное поле…
Выполнить всё это, то есть приземлить вертолёт, надо было именно так, и никак по-другому. И всё это в условиях, когда на борту возникла нештатная ситуация. Выдаваемая мощность разбалансированных движков в сочетании с предельной загрузкой высоко в горах не позволяет управлять вертолётом по стандартным шаблонам, принятым в наставлениях и инструкциях. Мощности не хватает, её всегда недостаточно. Такая посадка, таким образом (описанным здесь) – это один единственный шанс на спасение…
В голове постоянно отстукивало: «Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри – буби, господа офицеры!»
Сели мы очень-очень мягко. Выражаясь словами известного в прошлом лётчика и французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «…Так, как будто бы везли куриные яйца в кабине». Это был самый главный критерий оценки на «отлично» нашей посадки по «шкале Экзюпери». Сейчас дословно не помню, но смысл её заключается в том, что гражданским самолётом лётчик должен управлять так, чтобы ни один пассажир не почувствовал, что он находится в самолёте (в полёте). А постоянно ощущал себя так, как будто бы он сидит у себя дома в кресле или на диване. Ни при взлёте, ни в полёте, ни при посадке пассажир не должен испытывать никакого дискомфорта: ни кренов самолёта, ни разворотов, ни болтанки, ни тряски, ни вибрации, никакого закладывания в ушах, воздушных ям, нисходящих или восходящих потоков. Лётчик должен управлять своим летательным аппаратом так, как будто бы он «везёт куриные яйца в кабине без упаковки». Только при таком чувстве, вернее, когда вообще отсутствуют какие-либо субъективные ощущения у пассажира, что он летит, пилоту ставится оценка «отлично».
Об этих «яйцах» постоянно напоминали и Захаров, и Тимофеев. Особенно, они говорили, должен быть подобный самоконтроль по «шкале Экзюпери» во время посадки вертолёта по-самолётному.
Честно признаться, я много раз, летая на гражданских бортах пассажиром и вспоминая эти критерии оценки полёта, мало встречал экипажей, делающих всё на «отлично». Сам же всегда, в особенности при посадках по-самолётному, оценивал себя по этой шкале. Я старался всегда выполнить посадку именно на «отлично». Как будто действительно везу яйца внутри грузовой (пассажирской) кабины россыпью, и ни одно из них не должно при посадке и взлёте укатиться, не говоря о том, чтобы упало и разбилось. У меня, конечно, не всегда это получалось, вернее сказать, редко когда получалось. На «отлично». Но сейчас вот получилось! Значит, не зря всегда критически относился к себе, ставя себе эти оценки по «шкале Экзюпери»…
Мы сели в Бахараке с небольшой пробежкой по-самолётному. А там и бежать-то (катиться) было некуда. Площадка с покрытием из металлических плит была всего-то от силы метров сорок длиной и метров тридцать шириной. Я тут же доложил по радио и сообщил: «46» ― сижу! Всё нормально». Сразу же по радио, не помню кто, сообщили: «46» -го наблюдаем сверху. Всё хорошо у них, вроде». Далее шли распоряжения Козлова: «… такой-то! Ждёшь меня. Я подлетаю. Прикроешь. Я подсяду к «46». Остальные – домой».
Не успели мы очухаться, осмыслить то, что происходило, а происходило всё очень быстро и практически одновременно, как наш вертолёт окружили два БТР6 и один БМП7. Один из них (БМП-2) по близлежащим горам дал залп из своей пушки. Мы все видели, как в горах на скалах, куда стреляла БМП, разрываются снаряды. «Классное орудие», ― сказал я. В это время борттехник выключил двигатели нашего вертолёта. Пока винты ещё вращались, оба, и Игорь Татаринцев, и Валерий Глотов вместе, пристально глядя на меня, почти сразу в один голос спросили: «А ты что хохотал-то как сумасшедший в полёте?» У меня тогда ещё не прошли, накатываясь периодически, эти приступы хохота. Я им опять же сквозь смех и слёзы начал объяснять, за что мысленно держался в полёте, после того, что сказал в эфир Лебедь. Здесь от смеха, конечно же, началась содрогаться вся кабина экипажа.
Винты перестали вращаться, и мы вышли из вертолёта. К нам навстречу из близстоящего БТРа шли два человека в бронежилетах и с автоматами в руках. Здесь, как уже упоминал в своём повествовании, метрах в 200—250 от вертолётной площадки стояла старинная каменная крепость. В ней был расквартирован мотострелковый батальон Советской армии.
Всем членам нашего экипажа приходилось и раньше бывать в Бахараке, именно на этой площадке. Мы летали сюда всегда только в интересах наших разведчиков. Пограничных подразделений в Бахараке не было. Поэтому каких-либо грузов или пассажиров, кроме разведчиков, туда мы никогда не возили. И летали туда только с разведчиками на борту. Их встречали всегда какие-то люди в штатском.
Мы высаживали своих пассажиров. Они куда-то уходили, а мы выключались и ждали их, иногда по времени несколько минут, иногда до часу – двух. Бывало и так, что мы их просто высаживали и улетали дальше работать по своим планам, согласно поставленной накануне задачи, а в конце дня кто-нибудь по пути подсаживался в Бахараке и забирал представителей разведки обратно в Гульхану. Куда ходили разведчики, что делали, с кем встречались ― мы не знали и не спрашивали.
Когда мы прилетали сюда прежде, нас тоже всегда выезжали встречать и охранять БТРы, но их было два, или, чаще ― один. Солдаты выбегали из БТР, занимали подготовленные вблизи земляные укрытия, специально сделанные для охраны и обороны подступов к вертолётной площадке извне крепости. Располагались все бойцы в этих укрытиях, а также внутри БТРов и на них в течение всего нашего пребывания на площадке. После нашего взлёта, когда на вертолётной площадке никого не оставалось, на этих же самых БТР возвращались обратно к себе в крепость.
Иногда, когда наших разведчиков приходилось ждать сравнительно долго, мы или с лётчиком-штурманом, или с бортовым техником (у вертолёта всегда оставался кто-то из членов экипажа) проходили в крепость и слонялись какое-то время по её территории. Долго там бывать не приходилось, минут пять-десять максимум. Пройти в крепость можно было только через одни ворота. Через них выезжала и въезжала техника и ходили все военнослужащие. Во всех остальных местах, по крайней мере со стороны вертолётной площадки это выглядело именно так, стояли колышки в ряд, наверное, метрах в 8—10 друг от друга, с красными флажками и табличками, где по-русски было написано: «ОСТОРОЖНО, МИНЫ!» Я ещё говорил своим, указывая на эти надписи: «Это, наверное, для бестолковых лётчиков, кто здесь садится, написали». В крепость в целях безопасности надо было идти только по определённому маршруту: сначала до БТР строго по линии, по которой подходили к нам встречавшие, а далее – только по следам БТР. Получалось, что идти надо было буквой «Г». Срезать было нельзя ― опасно.
С обеих сторон ворот были оборудованы огневые точки в виде ДОТов8 или ДЗОТов9, обложенные ещё и мешками с песком по периметру. Солдаты, находящиеся там, видели издалека, что мы – лётчики, и пропускали нас. Но когда бы мы ни оказывались в крепости, мы никогда не заходили дальше так называемой «Аллеи Памяти». Это была узкая тропинка на территории крепости, вдоль которой росли высокие деревья. Между деревьями лежали каменные валуны, на каждом из которых виднелась табличка с фамилией, именем и отчеством военнослужащего ― солдата, сержанта, прапорщика, офицера ― погибшего за то время, пока батальон находился в ДРА. Так вот, эта аллея была очень длинной. Мы не считали никогда, сколько там этих памятных монументов, но помнится, что их был не один, не два и даже не три десятка, а значительно больше…
В этот раз, как никогда прежде, нас встречали целых три единицы бронетехники ― два БТР и БМП, а из-за ворот крепости, судя по шуму и видневшемуся выхлопному дыму от заводившихся и уже работавших двигателей, готовились выехать ещё БТРы и какие-то другие машины. Когда к нам подошли двое с оружием, один из них представился: «ВРИО командира батальона, замполит батальона, капитан…» Фамилия, имя и отчество этого офицера, к сожалению, у меня стёрлись в памяти. Я тоже представился: «Капитан Циканов Владимир, командир экипажа». Глядя на наши весёлые физиономии от ещё не успевшего схлынуть очередного приступа смеха, наш новый знакомый сказал:
– Ну, по выражению ваших лиц, я вижу, что у вас всё хорошо! А мы уж воевать собрались! Я тревогу объявил в батальоне, узнав о вашей неожиданной для нас посадке. Без предупреждения ведь.
– Да вот что-то с движком случилось! Правда, не знаем пока, что. А смеёмся мы, потому что есть одна причина посмеяться, ― ответил я.
Валера Глотов засобирался:
– Ну, я наверх полез. Смотреть, что там и как.
– Да, давай! Открывай! Мы сейчас тоже к тебе залезем, ― произнёс я, вглядываясь в застрекотавший над нами вертолёт. Это заходили на посадку Валерий Козлов с Василием Лебедем.
Члены моего экипажа бортовой техник Глотов и лётчик-штурман Татаринцев сидели уже наверху, на вертолёте, на открытых капотах двигательных отсеков, осматривая двигатели. Мне тоже очень хотелось узнать, что там наверху и как. Я быстренько залез через верхний люк кабины экипажа к ним. Валера Глотов меня встретил словами:
– Что-то ничего не вижу. Вроде всё нормально и никаких повреждений…
– Наверное, Тимоха и здесь уже нас опередил! Всё исправил уже, ― предположил Игорь Татаринцев. Мы опять покатились со смеху.
Я осматривал внешне оба двигателя и тоже ничего не видел: ни повреждений, ни лишних предметов, ничего подозрительного, за что можно было бы зацепиться взглядом, предполагая неисправность. Никаких видимых глазом причин для отказа.
Из только что севшего неподалёку и примостившегося на крошечном пяточке вертолёта к нам бежал Валерий Козлов, а Василий Андреевич остался выключать движки вместе с борттехником. Пока Козлов добежал до нас, двигатели их вертолёта изменили звук, значит их выключили. А к моменту, когда Валерий Петрович забрался к нам наверх, винты их вертолёта совсем прекратили вращаться. Движки стоящих чуть поодаль БТР тоже молчали ― ничто не нарушало тишину, можно было говорить спокойно. У Валеры Козлова, когда он забрался к нам, первыми словами были:
– Что это вы тут расселись и хохочете, как придурки?
Происходившее было отчётливо слышно даже у другого вертолёта, где находился весь козловский экипаж, какие-то офицеры, которых, наверное, Козлов забрал с площадок в Зардеве, ну и двое встречавших нас с автоматами и в бронежилетах. Они тоже к этому времени подошли туда.
Мы все наперебой начали рассказывать, что и как было на самом деле…

Та самая площадка в Бахараке … (Вид сверху) (фото было сделано, когда не было ещё никакого покрытия площадки)
Здесь, по-моему, начал хохотать весь Бахарак и вся крепость изнутри… Смеялись все! И Василий Андреевич у своего вертолёта тоже. Потом Козлов резко прекратил смеяться:
– Ну, я вижу, что у вас здесь ― цирк! Хорошо и весело! Вон вас какая махина понаехала охранять, а нам здесь с вами некогда в театр играть. Снимайте кассету САРПП («чёрный ящик» ― система автоматической регистрации параметров полёта), и ― мне, я её сегодня с улетающим экипажем в Бурундай передам, пусть там разбираются, что вы здесь наделали и что у вас случилось. Вы сидите пока здесь, загорайте и дальше смейтесь, покуда живые и жизнерадостные. А я полечу, мне надо будет и с Тимохой, и с Захаровым, и с Проничевым сейчас объясняться. Докладывать всё. Правда, я не знаю что и докладывать-то, что им говорить буду? Ведь не могу же я рассказывать им бред сумасшедшего, бред сивой кобылы, который вы мне здесь несёте. Всё! Сейчас со второй ходкой привезу вам инженера. Разбирайтесь здесь. А мы полетели…
На этом он закончил свой монолог и показал рукой Лебедю жест, означающий в авиации ― «Запускай!»
Уже слезая с вертолёта, он добавил:
– И без дополнительной команды чтобы не трогали ничего и не ковырялись самостоятельно нигде. Приедут спецы, всё сами будут решать. Никаких экспериментов и испытаний здесь.
Понятно?
– Понятно! Что уж? Я уже наэкспериментировался за сегодня, ― ответил я.
Игорь Татаринцев, уже успевший снять бронекассету САРПП, передал её Валерию Козлову.
Часа через два кто-то, не помню кто, прилетел и привёз инженера авиагруппы, высадил его и улетел. Тот, кого к нам привезли, по-моему, как раз и был майор В. Б. Коваленко, который был в экипаже вместе с Захаровым при взлёте на подбитом прибытковском вертолёте. Сейчас не буду утверждать, но кажется, что это он и был… Инженер привёз нам другую, новую кассету САРПП ― сказал, чтобы мы её установили.
Прилетевший спец и наш бортовой техник, покопавшись совместно часок наверху, пришли к выводу, что если визуально всё нормально, то это может барахлить только СО-40 (синхронизатор оборотов двигателей). Есть такой агрегат в вертолёте. Ещё часа через два-три подсел опять вертолёт и инженера увёз. А мы, весь экипаж в полном составе, сдав вертолёт под охрану караулу, под руководством ВРИО командира батальона (он же и замполит) пошли в крепость.
На ночь на усиление караулу и тем трём бронемашинам (два – БТР, одна ― БМП), которые приехали нас встречать при посадке, выдвинулись ещё два БТР с личным составом солдат на броне.
Уже близился вечер. Солнце садилось, стало заметно прохладнее. Мы шли пешком, двигаясь за «хозяином» крепости, друг за другом в колонне по одному. Командир-пехотинец шёл впереди довольно быстро, мы еле-еле за ним поспевали. Переходили иногда то ли на лёгкий бег, то ли ускоренный шаг. В крепости бросалось в глаза военное устройство быта: всё было по линеечке, побелено, покрашено, подметено, чистенько, без всяких разбросанных, неприбранных вещей и т. д. Ближе к северной стороне крепости, куда мы направлялись, стали встречаться постройки, явно возведённые уже в наше время. Когда мы почти упёрлись в северную стену, и идти дальше было некуда, то взору открылись помещения ― то ли каменные, то ли глинобитные, расположенные в три этажа и с небольшими окнами, обращёнными внутрь крепости. Все эти помещения примыкали к крепостной стене, являясь её продолжением. На самый верх крепости, к последнему третьему этажу, вела крутая, почти вертикальная, деревянная лестница с небольшими горизонтальными площадками на каждом из этажей. Каждая площадка служила входом на этаж и переходила в подобие балкона, идущего вдоль всей стены на уровне всего этажа. Балкончик был снабжён невысокой глинобитной стеной, предохраняющей от случайного падения. Но самое примечательное из увиденного мною было то, что здесь же, метрах в трёх-четырёх от входа на лестницу, была очень глубокая яма в три или даже более человеческих роста. Я это определил, вступив на ступени за нашим ведущим. Я шёл за ним вторым. В яме сидели и, как мне показалось, жалобно смотрели именно на меня два афганца. Они были небритыми и очень грязными. Зловонный запах из ямы доносился до нас, несмотря на значительное расстояние от её дна. Сверху ямы была даже не решётка, а закреплённые параллельно друг другу металлические прутья толщиною с лом. Это явно были не трубы или иные изделия промышленного проката, а наследие из далёкого прошлого ― кованные и неровные, с изменяющимся сечением в диаметре по всей своей длине. Стены ямы и её дно были из камня. Залезть до верха по строго вертикальным и совершенно гладким каменным стенам, либо запрыгнуть, чтобы как-то зацепиться за металлические прутья было невозможно даже двух метровому человеку, находившемуся на дне ямы.
Поднимаясь вверх по лестнице, я спросил:
– А это кто?
– Которые там сидят что ли? ― переспросил ВРИО командира, ― это духи. Вчера поймали наши их. С оружием ходили с тыльной стороны. Кто такие, зачем? Молчат пока. Ну ничего! Посидят ― заговорят!
– А как и где они в туалет ходят? Как едят, пьют? ― вопросительно и удивлённо продолжил я.
– А прямо там всё и делают! Стены лижут и грызут. Да не пугайтесь так! Мы же не живодёры и не палачи, как они! Посидят два дня и передадим их куда следует. Последовала пауза. Потом продолжил:
– А они их отпустят! И так всё без конца и начала. Недаром говорят, что в жизни нет ни конца, ни начала.
Я, поднимаясь, думал: «Какой здесь командир-замполит – философ». Ступеньки лестницы были достаточно широкими, деревянными, а вся лестница выглядела очень крепкой конструкцией. Это ощущение создавалось благодаря толстым и прочным доскам. Поднявшись на третий этаж и выйдя на горизонтальную и тоже деревянную площадку, мы вошли внутрь небольшого коридорчика. Справа от нас стоял рукомойник, представляющий собой бачок для воды с тремя клапанами-сосками. Прямо перед нами были две деревянные двери, слева – ещё одна. Причём последняя дверь отличалась от двух соседних массивностью и большими размерами по высоте и ширине.