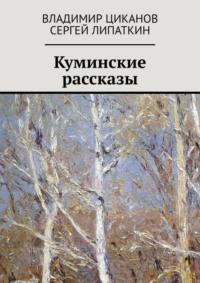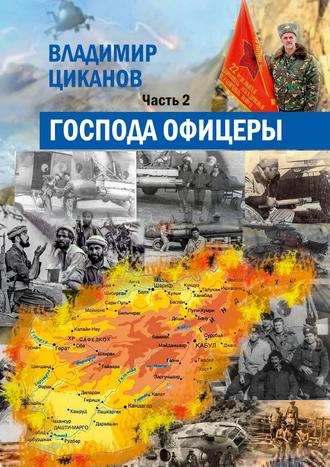
Полная версия
Господа офицеры. Часть вторая
Когда он это рассказывал, я почему-то всегда представлял себя в роли десантника. Как я, к примеру, взял бы рюкзак, положил бы в него гирю весом 32 кг, добавил туда ещё две четырёхкилограммовые гантели, потом взял бы в руки автомат (АКМ) и просто, никуда не спеша, пошёл бы по какой-нибудь ровной дороге. Почему-то мне ― наверное, потому что я знаю это не понаслышке и не раз испытывал на себе всю тяжесть силовых спортивных тренировок ― всегда во время рассказов Сергея, сопровождавшихся дружным и весёлым хохотом лётчиков, становилось не по себе. Мне же думалось, что попади я на его место, и мне бы тоже, действительно, в прямом смысле, захотелось бы умереть если не в середине первого дня пути, то в конце дневного маршрута уж точно! А где взять силы, энергии и воли что-либо делать на следующий день и все последующие за ним? На этот вопрос я про себя отвечал: «Лучше уж точно умереть!»
Забегая немного вперёд и нарушая хронологию, скажу, что Сергей Зуйков прошагает от начала до конца общую для всех нас войну, будет летать бортовым техником на всех типах вертолётов и закончит свою службу и лётную практику на больших военных транспортных самолётах.
Таможня
Переносясь в своей памяти в далёкий 1986 год, перед глазами встаёт организованная впервые в то время таможенная служба в кишлаке Ишкашим на нашей территории. В Афганистане, как раз напротив нашего населённого пункта Ишкашим, через речку Пяндж, есть одноимённый кишлак с точно таким же названием. Но в нём не было никогда никакой таможни. А вот у нас такая служба была организована, и при этом она начала работать очень и очень рьяно, требовательно. Наверное, рассматривая с каких-то своих позиций свою же деятельность, достаточно продуктивно.
Как-то раз, летя в 1986 году в очередную командировку в Гульхану и перевозя пассажиров, мы сели в нашем советском Ишкашиме. До этого ещё в Уч-Арале на инструктаже нас предупредили, что посадка при пересечении границы («линейки») сейчас в Ишкашиме обязательна. Что там работает таможня и что без её прохождения и специальных отметок, сделанных представителями этой службы в полётном листе, пересечение границы будет расцениваться как преступление перед советским законом.
При посадке в Ишкашиме, действительно, к нашему борту подошёл солдат, который заявил, что он – представитель таможенной службы, и констатировал при этом, что всем пассажирам надо выйти с вещами из вертолёта, так как их будет осматривать и проверять сам начальник таможенной службы лейтенант… такой-то ― назвал при этом фамилию. А всех членов экипажа и все наши личные вещи он (этот солдат) будет осматривать сам лично, и что нам надо приготовить все без исключения вещи, находящиеся на борту, к досмотру. Говорил он с подчёркнутой гордостью. «Ну что ж, ― подумал я, ― конечно, есть чем гордиться: солдат проверяет офицеров – это же прекрасно! Где и кто ещё в мире додумается до такого?! Перестройка, мать её!..»
Солдат этот копался во всех наших личных вещах с такой скрупулёзной страстью, разворачивая и перетряхивая демонстративно у каждого всё, что у нас было. Даже нижнее нательное бельё. Казалось, что мы там действительно могли спрятать что-то страшное. И что этому официальному и законному представителю таможенной службы дадут за такой «подвиг» как минимум медаль, а как максимум – боевой орден.
Ещё парадоксальнее и смешнее было наблюдать за тем, как происходил досмотр наших пассажиров, вышедших из вертолёта. Все они были офицерами от капитана до подполковника. Лейтенант, начальник таможенной службы, построил всех в одну шеренгу прямо на лётном поле. Перед каждым, стоящим в строю, лежали прямо на земле какие-то нехитрые личные баулы: у кого рюкзак, у кого какой-то старый потёртый чемодан. В каждом чемодане лейтенант внимательно и старательно копошился и что-то искал. В итоге нам лётчикам, наблюдающим за всем со стороны, было видно, что он изъял из содержимого всех личных вещей, принадлежащих нашим пассажирам, пару-тройку бутылок водки…
Я сидел на своём рабочем месте. Наверное, в это время на моём лице была какая-то злорадная и ехидная улыбочка. Мне вообще казалось, что всё это происходит не со мной и не со всеми нами, не наяву по-настоящему, а где-то на сцене театра в какой-то общей постановке-пьесе или спектакле, где мы все – действующие лица. Все мы – актёры, и я – такой же артист, как и все мои товарищи-офицеры. Я думал что-то такое, быть может, совсем непристойное, что никак не вписывалось в теорию и практику той идеологии, которая упорно насаждалась и пропагандировалась в нашем обществе, в Армии и, в частности, в наших войсках (ПВ КГБ СССР), начиная с середины 1985 года. Мысли в моём мозгу носились, смешиваясь все в одну кучу: «Перестройка! Борьба с алкоголизмом! Плюрализм! Открытость! Честность! Всё правильно! Всё так и надо делать! Всё надо перестроить! Значит перед этим всё надо сломать! Хорошо, что мы водку из своих чемоданов достали и перепрятали… Успели! Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри – буби, господа офицеры!»
Мой взгляд и моё, кажущееся необычным, выражение лица, наверное, как-то заприметил чуткий блюститель закона, солдат-таможенник. Видать, что-то заподозрив, он подошёл ко мне и попросил встать с кресла. Я беспрекословно встал и отошёл в сторону, думая про себя: «Надо же быть просто конченным и совсем круглым идиотом, чтобы спрятать водку в бронированное сиденье-кресло, придавить её парашютом, а потом ещё сесть на всё это и улыбаться!»
Всё пристально осмотрев, проверив и ощупав, и ничего не найдя, таможенник ещё долго стоял над тем местом, где я только что сидел, почему-то удивлённо и внимательно вглядываясь во все предметы, находившиеся рядом… Какое-то время таможенники ещё немного покопошились у нас в вертолёте и возле него, поработали с нашими пассажирами, потом, проштамповав нам полётную документацию и заграничные служебные паспорта, пошли в своё расположение.
Пришли наши пассажиры. Я спросил у них, что будет с водкой, которую отобрали, и главное, что будет с теми, кто её вёз. Они все засмеялись и сказали: «Что будет с водкой, мы не знаем. А на тех, кто её провозил, напишут какую-нибудь „депешу“ командованию части, где они служат. Пока те „проштрафившиеся“ офицеры, кто её вёз, будут здесь в ДРА, про эту кляузную бумагу все позабудут!»
Тогда не существовало никаких норм провоза личного багажа, не было регламентации того, сколько и чего можно было с собой везти. Только постоянно инструктировали: этого нельзя, того нельзя, ничего нельзя…
Одна бутылка водки – уже контрабанда! К тому же в период ПЕРЕСТРОЙКИ и поголовной, ставшей модной борьбы с пьянством и алкоголизмом попытка провоза водки – это вообще противоправное действие, граничащее с преступлением. На всём этом, пресекая все эти «противоправные» действия, показывая свою принципиальность, поддерживая «горбачёвскую» политику партии и правительства, шагая в ногу со временем, можно было хорошо «подняться» в то время по служебной и карьерной лестнице.
Мы взлетели. Я подумал: «Да… Водку стало провозить всё сложнее и сложнее».
Кстати, забегая опять немного наперёд, скажу, что на обратном пути, когда мы улетали обратно в Союз, нас в Ишкашиме так изнурительно долго, мучительно и унизительно не «шмонали». «Ну что?» ― думал я, ― «Водки же там за чертой нет: что искать-то у нас?»
Впрочем, надо отметить, что с последующими командировками в Гульхану на наших инструктажах почти всегда стали присутствовать офицеры особого отдела. Командир давал им слово, и они рассказывали нам, что участились случаи провоза из ДРА наркотиков. Приводились примеры, назывались какие-то фамилии солдат, прапорщиков и офицеров, которые были виновными в эпизодах с нелегальным провозом наркотиков и оружия. Но это было на участках КСАПО3 и происходило не с лётным составом, а с наземным. Слушая всё это, казалось, что это не про нас, с нами такого быть не может никогда. Но восприятие, исходя из моего понимания уклада всей жизни, было таким, что всё это было уже очень серьёзно. То есть, я действительно считал, что ввоз на нашу территорию «наркоты», не говоря уже про оружие, есть не просто нарушение, а уголовно наказуемое деяние, что это есть подрыв нашего существующего государственного строя и всей социалистической идеологии. Всё это я отчётливо понимал без всяких там инструктажей и предупреждений особистами.
Но почему-то именно при Захарове и в то время, когда нас стал, так сказать, курировать офицер особого отдела Михаил Пронякин, на таких инструктажах до меня стало доходить, для чего на самом деле нужны особые отделы и контрразведка в армии. Я думал: «А! Оказывается, вон они для чего нужны! И совсем не для того, чтобы кого-то с парой бутылок водки или солнцезащитными очками и китайской авторучкой с позолоченным пером „застукать“ и „зашухарить“ … Они должны стоять, и стоят на самом деле на страже нашего строя, чтобы его никто не мог подорвать изнутри».
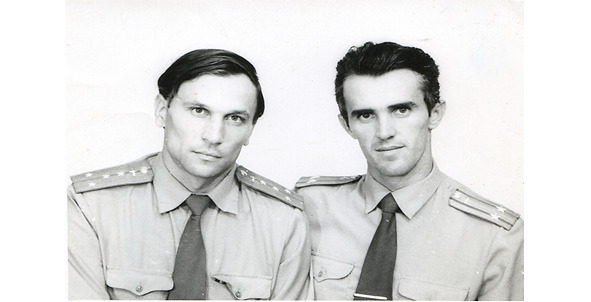
Молодой «опер» М. И. Пронякин и командир в/ч 9807 В. Г. Захаров
Другие мысли, которые тоже, наряду с этими, летали у меня в голове, всё равно рисовали мне другую картину. И от этого я в то время, если честно, не мог ни в чём разобраться: «Почему таможня досматривает трусы, как раз то место, где можно, вероятно, спрятать наркотики, когда мы летим „туда“, а не „оттуда“? Может быть, „их не те и не так“ инструктируют? Зачем „туда“ наркотики везти? Их там и так полным-полно. У нас их нет! Почему осмотр и досмотр наоборот?» Далее в мою голову провокаторски вливался коктейль из мыслей, мелькавших на страницах всех центральных известных, а также не центральных и не очень известных газет, которые все поголовно в то время цитировали нашего Генсека: «Плюрализм! Умение договариваться со всеми и на всех уровнях! Множество равнозначных мнений! Компромисс! Перестройка! Открытость! Гласность!» Ну, и т. д. Я думал: «Вот вам, пожалуйста! Всё, что вы здесь говорите – всё на блюдечке с голубой каёмочкой: и умение договариваться, и плюрализм, и компромисс, и ваша гласность! А что? Кому надо, тот договорился. Один договорился и сумел найти наркотики, либо оружие. Другой тоже договорился и сумел взять и провезти. Каждый из них думает, что так надо, что они ― правы. У каждого есть своё мнение. Надо уважать мнение каждого! Может существовать множество мнений! О чём говорит Генсек и наша партия? Зачем же закон? Плюрализм – всё это! Чем не плюрализм?» Вся мешанина из экзотического коктейля моих мыслей заканчивалась подведением под всем этим черты знаменателя из захаровского: «Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри – буби, господа офицеры!»
Про себя я делал вывод, что при таком подходе когда-то всё должно лопнуть и рухнуть. Каком подходе? И что лопнуть и рухнуть? Я думал про всё это по-ленински: «назревает ситуация, когда „верхи“ не могут управлять ни по-старому, ни по-новому, а „низы“ не хотят и уже не могут жить по-старому».
Помимо всего, именно тогда, в 1986 году, заговорили о том, что Афганистан – это ошибка, большая непростительная ошибка всего нашего государства, нашего строя, всего нашего советского народа, всей советской Армии. Всех нас, кто там участвовал и продолжает там находиться, был когда-то или как-либо и в чём-либо замешан. Заговорили с подачи самого первого лица государства, самого Генсека, сначала робко, как бы прощупывая реакцию всего окружающего мира. Потом, когда подхватили эту мысль все «трепыхатели» и пособники-карьеристы лжекоммунистических идей, заговорили с гордостью и открыто, втаптывая в грязь истинные чувства патриотизма и интернационализма всех воинов. И павших, и живых!
Обо всём этом и об «ошибках» всех наших предыдущих руководителей социалистического строя с приходом на должность Генсека Горбачёва сразу же стали говорить и кричать на каждом углу везде и всюду. Все, кому не лень, соревнуясь между собой в словесном поносе, как будто бы бежали на марафонской дистанции до финиша, где лежит приз ― заветное «Депутатское кресло». Тот вожделенный мандат, дающий и сулящий множество льгот, привилегий и зарплату, позволяющую не просто безбедно жить и существовать, а жить во сто крат лучше тех, кто воевал и сложил свою голову, тех, кто постоянно рисковал и рискует своей жизнью, и, конечно же, тех, кто честно работает, чтобы просто заработать себе на хлеб и на жизнь… Им некогда отвлекаться на что-то ещё… Обливать помоями всё вокруг в угоду лично себе…
Как известно, человек жив, пока жива его мечта и его надежда. Меня всё-таки окружали в то время в большинстве своём люди прекрасные душой, смелые, по-своему талантливые, честные, не способные сдать и заложить. Я видел и чувствовал насквозь всех своих друзей той поры. Знал, что каждый из них способен на любой подвиг во имя нашей общей Родины и что для этого, если нужно, не пожалеет собственной жизни.
У нас был прекрасный и уважаемый всеми командир Захаров. Я знал и был уверен, что он думал, как я, как все мы. И поэтому не смотря на все передряги и сдвиги в умах в высших эшелонах власти, я верил и, конечно же, надеялся, что всё в итоге и со временем будет хорошо. Должно быть хорошо! Поэтому с особым желанием и рвением продолжал летать, совершенствовать своё лётное мастерство и профессионализм. Летать и работать в Афганистане мне, как и многим моим сослуживцам и всем однокашникам по училищу, казалось важным и нужным.
Отказ двигателя и вынужденная посадка
Это случилось в одной из моих командировок в ДРА в 1986 году. В тот период временной и не такой уж частой передышки, когда на всех фронтах нашего направления и всех местах дислокации там наших войск активных боевых действий не велось. Все лётчики, как я уже отмечал, вели сугубо мирную жизнь и занимались транспортными перевозками различного типа.
Мы экипажем в составе: я – Циканов Владимир, командир экипажа, Татаринцев Игорь – лётчик-штурман, Глотов Валерий – бортовой техник, выполняли транспортный полёт в составе группы вертолётов по маршруту: Гульхана – кишлак Изван. И должны были после выполнения своего задания вернуться в составе этой же группы обратно на Гульхану.
Изван – это как раз в том Зардевском ущелье, где происходили все основные события и все боевые действия всего нашего Восточного Пограничного Округа КГБ СССР, начиная с 1985 года и вплоть до самого конца вывода всех наших войск из Республики Афганистан.
В непосредственной близости этого кишлака Изван расположился один из вновь образованных наших гарнизонов, куда пролегал наш маршрут полёта. Мы выполняли полёт в составе пятёрки вертолётов. Шли не плотным строем, а просто один за другим на расстоянии визуальной видимости друг от друга. У каждого экипажа в этой группе вертолётов было своё отдельное задание с посадками на различные площадки в этом ущелье. Кто-то вёз личный состав для замены (ротации) офицеров и солдат на этих площадках, кто-то ― продовольствие и топливо, кто-то боеприпасы и т. д. Мы везли мины к миномётам 82 мм и 120 мм калибра. Причём загрузка была самая предельная, что называется, под завязку. Ведущим и одновременно командиром всей группы был командир звена майор Валерий Петрович Козлов. Он, соответственно, летел самым первым. Мы летели в группе четвёртыми по счёту, т. е. предпоследними.
С самого утра, когда мы все взлетели с Гульханы, ничто и ничего не предвещало и не настораживало в наших сегодняшних полётах, никак и никоим образом не предупреждало о каких-то неординарных ситуациях или, тем более, о возникновении каких-то особых случаев. Все в группе, и я в том числе, не раз выполняли точно такие же задания, садились и взлетали со всех существующих на то время в зардевском ущелье вертолётных площадок, расположенных в непосредственной близости от мест дислокации базирующихся там наших наземных войск. Погода была хорошая, видимость прекрасная. Не было при взлёте ни болтанки, ни тряски. Параметры работы вертолёта и его двигателей были все в норме.
Только-только наш вертолёт успел перевалить через тот перевал с северо-восточной стороны Зардевского ущелья, через который мы залетали сюда практически всегда, потому что, хоть это был не самый короткий, но зато самый безопасный путь, как указатель оборотов двигателей (тахометр) начал показывать «вилку» (разницу в оборотах) двигателей. Сразу появилось снижение. Вертикальная скорость на вариометре была 1.5—2 метра в секунду. В принципе, после прохода этого перевала и так сразу же надо было начинать снижение, чтобы при подлёте к месту запланированной посадки иметь ту высоту, с которой начинается манёвр для захода на посадку. Высота нашего полёта и этого перевала, через который мы летели, была значительно выше той, с которой надо было строить этот самый манёвр для захода. Но дело в том, что я сам не переводил вертолёт на снижение. Он начал снижение без моего вмешательства самостоятельно! Один двигатель работал на взлётном режиме, а второй работал на режиме значительно ниже «номинала». «Вилка» в оборотах обоих двигателей была 25—30%.
Не успел я пока ещё ничего сообразить, но, нажав кнопку «радио», выдал в эфир: «Я ― „46“! Вилка 25—30. Снижение 1,5 -2». Тут же, практически за сказанной только что мной фразой в эфир, вертикальное снижение стало увеличиваться: 4-5-6-7-8-9 метров ― в секунду! «Вилка» в оборотах тоже значительно увеличилась. Я ничего не делал, в смысле не опускал «шаг-газ», чтобы убрать обороты двигателей и соответственно уменьшить тем самым их мощность, чтобы перевести вертолёт на снижение. Он непроизвольно стал снижаться сам из-за падения мощности одного из двигателей. Мощи другого двигателя хватало только на то, чтобы вертолёт летел, но со снижением. Обороты правого двигателя упали почти до оборотов «малого газа»! А левый двигатель продолжал работать на «взлётном». «Убирать» обороты, то есть опускать «шаг-газ» вниз было нельзя, так как вертолёт и так интенсивно снижался. Опускание его вниз привело бы ещё к большему увеличению вертикальной скорости.
Я снова доложил по радио: «46! Вертикальная ― 9. Стрелки на тахометре – в разные стороны». Сразу после этой моей фразы в эфире прозвучал доклад командира экипажа вертолёта, замыкающего нашей колоны: «46 не вижу». Здесь в эфире наступила на какое-то время полная тишина. Все ― в других бортах, а мы – здесь, в своём вертолёте, понимали, что мы падаем. Мы, конечно, не падали строго камнем вниз, но мы летели по ущелью со стремительным снижением. По сути, это был отказ одного из двигателей. Действовать экипажу надо было так, как действуют в случае при отказе одного из двигателей. Я пробовал тащить правый РУД (рычаг раздельного управления двигателем) вверх, в надежде на то, что эти действия приведут к увеличению его оборотов. Но мои надежды не оправдывались… К тому же при этом, как мне показалось, начала вздрагивать стрелка оборотов несущего винта, а это было очень опасно. Потерять обороты винта – это верная гибель!
В эфире послышался голос ведущего Валеры Козлова: «46! Ваше решение?» У меня на тот момент не было никакого решения. Я так и сказал: «Да нет ни ху* никакого решения! Снижаемся покуда…» Я отчётливо тогда, именно в тот миг, когда Валера спросил, а я ему отвечал, осознавал только одно, что при такой вертикальной скорости снижения и работе одного двигателя на взлётном режиме, а другого ― вообще не понять на каком, подбирать какую-то площадку для посадки здесь и прямо сейчас нет ни малейшей возможности. Даже и не думал об этом! Потому что знал, что нас при любой попытке даже попытаться сделать это просто размажет о скалы. И в любом случае при таком нашем грузе от нас и нашего вертолёта останется только одно облако. Даже домой нечего будет везти…
Все эти мгновенно носящиеся мысли в моей голове вперемешку с уже привычными по жизни: «Нас не спрашивают! Нас душат! Козыри – буби, господа офицеры!» никакого оптимизма мне не придавали и не прибавляли. Вдруг в эфире послышался голос Василия Лебедь: «Володя! Держись!»
Здесь я должен сделать обязательное отступление от своего рассказа и немного всё пояснить. Я только немного расскажу о двух замечательных, заслуженных и лучших лётчиках нашей части, учаральской авиаэскадрильи. Потому как для того, чтобы рассказывать полностью о судьбе каждого из этих людей, не говоря уже о том, чтобы говорить подробно о них вместе взятых, потребуется очень много времени, и не хватит, мне кажется, страниц одного тома книги. Судьба их, этих лётчиков, очень интересна, а жизнь, прожитая ими к тому времени, была многогранна и насыщена разного рода оптимистическими и драматическими событиями. Такие жизни у каждого из них разные, но каждой из них, в моём представлении и понимании, хватило бы на несколько человеческих жизней…
Валера Козлов в тех давно прошедших, 1979 и 1980 годах, когда мы только что пришли молодыми лейтенантами в часть, летал лётчиком-штурманом и перевёлся в Уч-Арал с Камчатки. Как и почему его перевели в Уч-Арал? Никто не знал. Уч-Арал, по сравнению с Петропавловск-Камчатским, где служил до этого старший лейтенант Козлов, был настоящей ссылкой. Там, на Камчатке, была цивилизация: кинотеатры, стадионы, рестораны, плавательные бассейны, приличные общеобразовательные, спортивные и музыкальные школы для детишек. Там была рыба и икра. Там была вдвое или даже ещё больше заработная плата. Всего этого в Уч-Арале, конечно, не было. Поэтому офицеры, как правило, не соглашались никогда на такие неравнозначные переводы. Валера Козлов вместе с семьёй почему-то, к удивлению многих из нас, был переведён…
Вспоминается, что где-то в те же годы, конец 70-х – начало 80-х годов, у нас в стране на наши советские экраны вышел художественный фильм, рассказывающий о лётчиках-пограничниках. Про их трудную повседневную жизнь в отдалённом камчатском лётном гарнизоне, служебную деятельность, про полёты… Название этого фильма я не помню! Скажу только, что снимался этот фильм на самой Камчатке при содействии лётных частей наших пограничных войск. И сюжет, сценарий к этому фильму, образ главного героя и ключевой фигуры в нём были действительно существующим в истории фактом. И писались они с реального прототипа – лётчика одного из подразделений авиации ПВ. Прототипом этим был как раз Валера Козлов. А главного героя тогда в этом фильме сыграл известный и знаменитый теперь артист и телеведущий Александр Галибин. Он сейчас ведёт известную на весь мир передачу на Российском телевидении на Первом канале «Жди меня».
Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня возникла мысль: «Вот было бы хорошо и интересно, если бы уже в наше время сделали продолжение этого фильма. А сценарий, правда, уже с другими действующими лицами, другими жизненными ситуациями, другим командиром, но с тем же главным героем уже есть. Его написала сама Жизнь!»
Так вот, летал он (Валерий Козлов) тогда в те времена у нас в УчАрале, когда мы только что молодыми лейтенантами пришли в часть, правым лётчиком и был впоследствии штурманом звена у Василия Лебедь, который был в то время командиром звена. Судьба как-то так распорядилась, что именно во время этого нашего совместного выполнения боевого задания тогда они поменялись ролями. Так разложились звёзды на небе. Валерий Козлов был и летал теперь командиром звена. Был к тому времени заслуженным и уважаемым лётчиком. Орденоносцем! Имел орден Красной Звезды и ряд других боевых наград.
Кто такой Василий Андреевич Лебедь? Классный лётчик, имеющий тоже ряд боевых наград. Да! Но именно сейчас и в эту самую минуту, когда мы падали в ущелье, Василий Андреевич был штурманом звена и летал правым лётчиком в экипаже Валерия Козлова. Вообще, правые лётчики не имели право вмешиваться в радиообмен и никогда не вмешивались. Но Василий Лебедь! Василий Андреевич – это отдельный случай! Он имел полное право! Он был когда-то по самой первой поре, когда я пришёл только что из училища, и моим командиром звена тоже. Я и сейчас не забыл его всегда эмоциональные, но принципиальные и справедливые требования ко всем своим подчинённым, в том числе и ко мне. Но также помню, сколько раз он спасал меня, отмазывая (на армейском жаргоне «отмазывать» – означает скрывать, защищать) от всего командования, а потом и лично от только что вновь назначенного на место начальника штаба у нас в части капитана Корнева Петра Адамовича! Сколько раз он прикрывал меня! («прикрывать» в данном случае имеет и несёт смыл – нести и плести вслух всякую чепуху и ересь начальству, но так, чтобы это выглядело правдоподобно).
Но это только мы с ним знаем… Сам он, отчитывая и ругая затем меня за все мои выкрутасы: за неприбытие вовремя на построение по ночной тревоге, опоздание в строй и т. д., и т. п., списывал всё в своём сознании на мою несознательную, холостяцкую жизнь и молодость. Говорил: «Женить вас всех скорее надо, чтобы не бегали никуда». Нам всем тогда молодым лейтенантам было по двадцать (чуть с хвостиком) лет. И мы были чуть-чуть постарше, а иногда просто ровесниками многих солдат второго года службы.
В общем, никто из начальства и командования в то время, кроме Василия Андреевича, лучше не знал ни всю мою подноготную, ни состояние моей души. Поэтому я говорю, что Василий Андреевич Лебедь имел полное право вмешаться в радиообмен и дать какие-то мне указания…