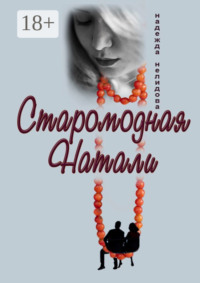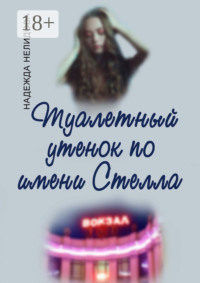Полная версия
КинА не будет
В Серёжкином голосе подрагивали и звенели торжество и упрёк, и вина перед женой. Дескать, вот, мамочка, ты с подружками всё точишь зуб на Карину – а она, бедная, бьётся как рыба об лёд, всё в дом, всё в семью.
Из соседских, по-весеннему прозрачных кустов всё хорошо просматривалось. Из домика вышла Кариночка, застёгивая свою белую шубку, и мужчина, на ходу накидывая дорогое пальто.
– Они шли такой расслабленной походкой… Лениво, устало приволакивая ноги. Как ходят после… Ну, после… – Аэлита положила руки на стол и спрятала в них лицо.
Пара не спеша села в машину. Откинулись на спинки, закурили и довольно долго беседовали. Нисколько не боясь, не стыдясь, что появятся соседи, доложат свекрови.
Кариночку всегда отличало это бесстрашное равнодушие, холодная отвага, уверенность в себе: «Пшли все вон, я королева». По-простому, это называется хамство и наглость. Она будто всегда пребывала в анабиозе, и её тело хранило температуру на несколько градусов ниже прочих теплокровных женских тел.
Мужики от этой холодной взбалмошности офигевают, теряют остатки ума: вспомните Настасью Филипповну. Женские равнодушие, презрение и самоуверенность притягивают и парализуют их слабую сущность, как змеиный взгляд. И вот они уже готовенькие, и, ужаленные, зачарованно, покорно и неотвратимо ползут в пасть, чтобы быть заживо проглоченными и переваренными.
В Аэлите всё кипело, она напорола горячку. Как только машина уехала, набрала сына.
– Серёж, позвони Карине, узнай, где она. Да, надо. Да, очень. Потом объясню.
Через полминуты озадаченный Сергей сообщил: «Кариночка с утра в президиуме на совещании. Распсиховалась и сказала, что отключает телефон, чтобы не мешал».
Вот всё и встало на свои места.
Вечером этот подкаблучник рассказал жене об Аэлитином звонке. Что тут началось! Кариночка же не зря в совершенстве знала тысячу и один способ размазывания мужчины по стенке.
Она мгновенно сбросила змеиную переливчатую шкурку, вышла из холодного, спящего состояния. Превратилась в расхристанную торговку с Перевоза – тем, кем была в душе на самом деле.
Поток грязных слов, изрыгаемых бледными фригидными устами воспитанной Кариночки, состоял из трёх и пяти букв, и прямо и грубо обозначал половые органы и отношения между мужчиной и женщиной. Поток этот обрушился на Серёжку и окончательно смял и погрёб его.
Досталось по самые помидоры и «подозрительной, параноидальной мамаше», и ревнивому на пустом месте мужу дураку. В то время как она, Карина, пашет как проклятая… да когда этот ад кончится… да пошли вся ваша семейка на…
Покидала шмотки в сумку, схватила ключ от авто и дочку под мышку – и умчалась к родителям. Очень, очень надёжный и единственно верный ход со стороны бл… в такой ситуации.
Её родители, тоном оскорблённых августейших особ, выступили по телефону в роли переговорщиков. Оказывается, мужчина в дорогом пальто – это кузен Адик. Он хочет купить участок в их дачном обществе. Кариночка любезно обещала помочь Адику – что в том криминального? А что касается совещания – их девочка на полчасика отпросилась у начальника.
Карина нетерпеливо выхватила трубку. И – полилось, хоть нос зажимай. «Только воспалённое воображение… Бешенство матки твоей неудовлетворённой мамаши… Психушка плачет…»
Серёжка, опустив голову, смертельно побледнев, слушал в трубке выплёвываемые, злобные оскорбления в адрес матери. Он готов был не то выслушать, лишь бы ему вернули дочку.
Вечером Кариночка въехала на белом коне, колени которого униженно лобызал Серёжка. До своих худосочных капроновых коленей жёнушка не допустила: не заслужил. В тот же вечер поспешила закрепить победу на завоёванных рубежах. Села в машину начальника и уехала на ночное дежурство. Якобы какая-то прямая «горячая» круглосуточная линия: краевые выборы на носу.
Вернулась утром прокуренная, мятая, пахнущая дымом, шашлыком, коньяком и мужскими руками – и брякнулась спать. На Серёжку страшно было смотреть…
***
И снова бар, полутьма. Аэлита расстёгивает сумку и достаёт крошечный чёрный квадратик. Карта памяти регистратора. По нашему совету, она в тот же день умыкнула ключи от «мазды». Вынула видеокарту из гнезда и заменила другой. Уверенная в себе (оборзевшая, по Людиному определению), Карина не опустилась до того, чтобы заметать следы. Ещё чего, было бы перед кем.
Мы сидим за столиком с видом мисс Марпл, Джессики Флетчер и Насти Каменской, вместе взятых. Сейчас Аэлита прокрутит запись на планшете: о чём Кариночка говорила в машине с кузеном? О покупке участка? Или о том, какие позы вызывают особо улётный оргазм?
И тайное станет явным. Карина не отопрётся, стушуется, прижмёт хвост.
– Ну, давай, – неприлично торопит Люда. Ей не терпится расправиться с борзой Кариной.
– Кина не будет, девочки, – тихо говорит Аэлита. – Я стёрла запись, – и объясняет, хотя мы молчим: – Сейчас у Серёжки есть хотя бы дочка. А так не будет ни семьи, ни дочери.
– Ты с ума сошла? Обрекаешь его на адскую жизнь!
– Да. На адскую. Но на жизнь. А без дочки ему не будет никакой жизни. Даже адской. Жизнь продолжается, дамы.
Аэлита тонкими, с уже узловатыми возрастными суставами, пальцами переламывает и выбрасывает видеокарту в пепельницу. Мы не спрашиваем её: просмотрела ли она запись? И было ли тамчто-то? Зачем? Отныне ей нести неподъёмную, двойную тяжесть. И за себя, и за пребывающего в счастливом неведении сына.
***
Жизнь продолжается, дамы. Через год наш женсовет отмечает 8 марта.
В семье Сергея произошли большие изменения. Тот случай, когда говорят: не было бы счастья – да несчастье помогло. Кариночка серьёзно занемогла.
Неизвестно, в каких обстоятельствах места, времени и действия (скорее всего, на очередном пикнике с ночёвкой), она жестоко застудила все органы, относящиеся к сфере урологии, нефрологии и гинекологии. Отнялись ноги, скрутило так, что за месяц стала хроником. Её вывели на вторую, а потом и на первую группу инвалидности.
Сейчас Кариночка сидит дома в коляске, вяжет макраме и смотрит в окошко. Ждёт, когда покажутся муж с дочкой. И, блин, когда соизволит притащиться эта несносная свекруха, поднимет её, подмоет, смажет опрелости маслом «Джонсонс бэби» и поменяет памперсы?
Со своей мамашей Карина вдрызг разругались. Та заявила, что раз так – её носа тут не будет, она не собирается убирать говно за «зассыхой». Родная кровь, между прочим.
Аэлита рассматривает сухие, изъеденные моющими средствами руки, и вздыхает:
– Бедняжка Карина. Выпьем за её здоровье… – Горько усмехается: – И ещё за то, что бодливой корове…
– …Бог рогов не даёт! – хором заканчиваем мы.
МОЯ ДЖЕССИКА
История эта давняя. Относится к тем временам, когда в общественном транспорте висели зубастенькие коробочки компостеров. А водители сами нередко выступали в роли контролёров.
До Нового года оставалось три часа. Ковры были выбиты и почищены сухим снегом, стол сервирован холодными закусками, и из духовки пахло запекаемым гусем. Дочка из спальни крикнула, что она погибнет без мерцающей губной помады, которая единственная гармонирует с её вечерним платьем, и которую она забыла у Клековкиных. До Клековкиных, между прочим, нужно было пилить на троллейбусе в центр города. Он попробовал возмутиться и отстоять законное право поваляться у телевизора до прихода гостей. Но за дочку вступилась жена, а прекословить двум женщинам в доме…
В это же самое время на другом конце города в такой же светлой и теплой, пропитанной аппетитными запахами квартирке другая женщина в прихожей озабоченно влезала в пуховичок. Только что муж обнаружил, что в аптечке кончился атенолол. От одной мысли, что в новогоднюю ночь он останется без таблеток от давления, у него подскочило давление. А может, и не подскочило, просто уж очень муж любил себя и свое здоровье. Он так жалобно поглядывал на неё, вздыхал и держался за сердце, что она села обзванивать аптеки и отыскала-таки дежурную, правда, она находилась в самом центре города.
В салоне троллейбуса было холодно и крепко пахло нафталином от шуб и пальто. На освободившееся кожаное место рядом с ней сел высокий сутулый мужчина в потёртой дубленке. Помолчав с минуту, спросил:
– Простите, у вас проездной? Или зайкой едем?
– Что-что?!
– Остановка «Университетская, – хрипел в микрофон водитель. – На выход приготовьте талоны, проездные билеты.
А она в который раз тщетно перетряхивала сумочку: проездной забыла дома. Ну почему ей так всегда не везет? К выходу плелась последней, всё еще надеясь на лучшее. Водитель – молодой парень. А у неё: личико, фигурка и всё такое. Она взглянула на водителя с такой прелестной беспомощной улыбкой, что имей дверцы глаза, и они бы не устояли и, астматически зашипев, распахнулись.
– Штраф – рубль.
– У меня двадцать копеек в кармане… – В нежном девичьем голосе звенели слёзы, и голубые глаза в ореоле французских теней умоляли о пощаде.
– Тогда в парк.
Она с оскорблённым лицом бухнулась на место для пассажиров с детьми и инвалидов. В троллейбусно- трамвайном управлении её слегка пожурили и отпустили с миром. Но настроение весь остаток дня у нее было отвратительное.
– Ишь, какой, – шептала она и топырила губку в бледно-розовой помаде.
Он раскрыл коричневое портмоне и показал снимок под пластиковым квадратиком. С неё смотрела она сама двадцатипятилетней давности: смеющаяся, с вертикальными ямочками на щеках, с раскиданными по плечам белокурыми прядями. На самом деле это была вырезанная из глянцевого журнала фотография Джессики Ланж. Ей в молодости всегда говорили, что она ужас до чего похожа на эту американскую артистку. Потом говорили всё реже. Сейчас вообще ничего не говорили.
– В прихожей у нас такой же висит, увеличенный. Жена ругается. Смотри, говорит, застукаю я тебя с этой Джессикой – последние волосёнки выдеру. – Он доверчиво снял шапку и, в доказательство, нагнул голову. Открылись залысины, значительно подъевшие со лба и висков некогда великолепную прическу. А она подумала, что всю жизнь до сих пор очень часто воображала его на месте мужа… Даже в самые интимные моменты. Но вслух ничего не сказала.
Вероятно, это была ирония судьбы. Но на следующий день, когда она, запыхавшись, влетела в троллейбус с передней площадки, за стеклом сутулилась широченная спина вчерашнего водителя. Увидев её, он неожиданно расплылся в добродушной улыбке. Он едва не подмигнул ей как старой знакомой – это после такого вчерашнего свинства с его стороны. Скажите, каков нахал! Чтобы не видеть его мерзкой ухмыляющейся физиономии, она стала энергично протискиваться в конец троллейбуса.
– Товарищи пассажиры, задние двери открываться не будут. На выход приготовьте талоны, проездные билеты.
– Назло, разумеется, – усмехнулась она. Но у выхода поневоле оказалась последней, из чего он сделал неправильный вывод.
– Ага, зайка, снова попалась? – он загородил ей дорогу. – На вчерашнее дуешься? Не бойся, в парк не повезу. Но в наказание за вторичный бесплатный проезд тебя следует прокатить по кольцу туда и обратно. Тебя как зовут?
Вот тут она с убийственно-холодным видом не торопясь вынула студенческий проездной. Помахала у него под носом, выпрыгнула из троллейбуса и зашагала прочь.
Как полагается в новогоднюю ночь, мела метель.
– Смотрите! – Она фыркнула и указала за стекло на неровно бредущую и спотыкающуюся в треугольнике света от фар, в освещённых снежных завихрениях толстую фигуру. Троллейбус отчаянно и безрезультатно сигналил. Это был дед Мороз в голубой шубе, густо осыпанной искусственными и настоящими снежинками – только без шапки, рукавиц, без мешка с подарками, вероятно, давно утерянными. И без Снегурочки. Посторонившись и встав на обочине, он что-то прокричал одиноким пассажирам в освещённом салоне, размахивая сорванной ватной бородой.
– Поздравил, наверно, – предположил он.
После последней пары она подошла к Славке с пятого курса, который обладал самым атлетическим телосложением среди всего университетского мужского населения и который давно имел на нее виды. Она попросила проводить ее до общежития. Обалдевший от счастья Славка приобрёл на первом же углу большой букет роз. Ну что ж, розы были отличной деталью к задуманному спектаклю.
Мимо остановки «Университетская» прошло семь троллейбусов. Мороз, как ему и полагается, крепчал. Улица напоминала баню с вырывавшимися из дверей магазинов и кафешек клубами белого густого пара. У дрожащего Славки посинел нос, и он немножко начал терять свой великолепный спортивный вид. Ей тоже пришлось несколько раз вынимать зеркальце и приводить себя в порядок. Славка начал подпрыгивать, бить одной ногой о другую и настойчиво спрашивать, чего они не садятся. Но вот за стеклом очередного широколобого троллейбуса она увидела знакомое симпатичное лицо и широкие плечи, обтянутые свитером.
Она мигом втащила закоченевшего Славку и встала так, чтобы в водительское зеркало хорошо было видно и охапку стеклянно промороженных роз, и её счастливые блестящие, в подтёках туши глаза, с любовью устремлённые на Славку, и без умолку болтающий ротик. Так как водитель мог только видеть, как этот ротик открывается и закрывается, и не слышал слов, она несла такую тарабарщину, что на неё пассажиры оглядывались. А бедный Славка стоял, уставившись на неё с ненормальным видом.
Результат превзошёл ожидания: водитель резко повернул зеркало книзу. Она вмиг его пожалела.
– Слав, я за талонами!
– У нас же проездные…
Она не слышала. Она уже подбегала, цепляясь за поручни, к водительской кабинке. Сейчас она протянет ему полтинник и скажет:
– Какой ужасный мороз, правда? Мы с моим б р а т о м замерзли до костей. Вчера вы что-то упомянули насчёт прогулки по кольцу…
Да, именно так она ему скажет – и какая, должно быть, счастливая и блаженная физиономия у него сразу станет!
Но у кабинки стояла и тоже покупала билеты девушка маленького ростика в пальто-разлетайке. И этот подлый донжуан из троллейбусно-трамвайного управления (у неё от возмущения дух захватило) – откровенно приставал к этой коротышке. Он спрашивал, на какой остановке она выходит, и ах как жаль, что их случайное знакомство так быстро обрывается, но если у девушки свободный вечер и т. д. Последних слов она не слышала, потому что брела, почти бежала, спотыкаясь, обратно, шепча под нос отчаянные, злобные и бессвязные слова.
О, слепоглухонемая юность! Как ей в голову не пришло, что всё, что говорилось девушке, было сказано исключительно для неё! И исключительно из-за неё троллейбус едва не промчался на красный свет, но даже отчаянных криков пассажиров она не слышала. Напротив, ей казалось, что троллейбус тащится невыносимо немедленно – она, подгоняя, мысленно со злостью попинала его под зад.
– Ты купила талоны? – спросил простодушно Славка.
– Ах, да оставьте вы все меня в покое! – у неё из глаз брызнули слезы. Больше всего на свете ей хотелось немедленно выпрыгнуть на улицу и никогда, слышите, никогда в жизни не садиться ни в один троллейбус.
Новогодние мелодии лились с плёнки шепелявого кассетного магнитофона в руках парня на задней площадке. Но тот скоро вышел. В салоне остались они одни. Кондуктор, рыжая девчонка, подошла к водителю и что-то ему сказала. Водитель, весёлый парень, высунулся и крикнул:
– Хорош бомжевать, старички, а? Третье кольцо катаетесь, дома небось внуки потеряли.
Её спутник встал, прошел к кабинке и вскоре вернулся.
– Что вы ему сказал?
– Что всю жизнь водил троллейбус. Что этот маршрут был мой самый любимый. И в некотором роде паренёк – мой крестник.
На конечной остановке у одноэтажной жёлтой коробки диспетчерской троллейбус перестал натужно гудеть и греметь штангами. В салоне притух свет. Кондуктор заспешила к выходу, за ней полез и водитель. – Мы щас, старички бездомные. Только Новый год встретим, и обратно.
Он показала ей часы: без шести минут двенадцать. Она только покачала головой. Он вынул из кармана патрончик с дочкиной мерцающей губной помадой, отвинтил крышечку. Приподнял, как крошечный бокал:
– С Новым годом?
Она поискала в сумке, но кроме пузырька с валерьянкой (для мужа- гипертоника) и бутылки с уксусом (для пельменей) ничего не нашла.
– Может, по десять грамм валерьянки? На спирту всё же…
Они по очереди поднесли к губам «бокал» с накапанной валерьянкой.
После выпитого, как водится, он расхорохорился.
– Едем в гостиницу за город! Знаю одно замечательное местечко, и администратор мой хороший знакомый.
Она расхохоталась и долго не могла успокоиться, повторяя:
– В гостиницу? За город? Ой, я не могу! В гостиницу?!
Он пригорюнился, и она, чтоб он не обижался, привстала и поцеловала его в лысину.
– Слушай, – спохватился он. – А ведь я до сих пор не знаю, как тебя зовут.
– Джессика, – сказала она. – Джессика Ланж.
Троллейбус ожил, загудел и развернулся. Они тронулись в обратный путь: пока ещё вместе, но уже каждый в свою жизнь.
ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ
У счастливого волос – у несчастного ноготь. Так говорила бабушка, так постановила народная мудрость. Имеется в виду, что хозяйка пышной, густой шевелюры – по жизни счастливица. А женщине с жидкими волосёнками и шикарными ногтями – не везёт. Потому что на фиг кому сдались твои выдающиеся ногти? Разве что возьмут руку, рассмотрят, неодобрительно качнут головой: «Отрастила когти! Сразу видно: лентяйка, хозяйка никудышная». Только маникюрши в восторге от твёрдых миндалевидных ногтей. Да откуда у невезучего человека деньги на маникюр?
А, между прочим, такие ногти отлично очищают кастрюли от нагара. И без ножа выколупывают глазки из картошки. И сорняки на бабушкином огороде выковыривают, будь здоров – только нужно после брусок мыла поскрести, чтобы не было чёрной каймы под ногтями. А ещё можно царапать обидчиков, как кошка.
И вообще, Танька себя несчастной не считает. У неё есть собственная чистенькая малосемейка в новостройке – дали как сироте. До этого она с бабушкой жила в щелястом бараке. Обычно маленькие девочки рисуют травку, домики, в окошке цветок, а из трубы идёт дым. Танька рисовала не цветочки и домики – а волков. Волки получались похожими на кудрявый дым из тех труб или на лохматые клубки бабушкиной шерсти. Из клубков торчали круглые, добрые доверчивые глаза.
Бабушка читала про Красную Шапочку. В середине сказки останавливалась и закладывала страницу скрюченным белым, будто вываренным пальцем. Говорила, что так-то так, но волк – самый верный зверь и прекрасный кормилец семьи. Никогда не бросит свою жену и детей. Не то, что псины: вспрыгнули, сделали своё черноё дело, отряхнулись и побежали дальше, хвост торчком.
И на улице при виде играющих в чехарду собак закрывала ей глаза. У, кобели, глаза бы не глядели.
Под кобелем имелся в виду Танькин отец. Однажды утром бабушка не проснулась. Её уложили в узкий голубой ящичек со взбитыми внутри рюшами, как девчачий пенал. Не понятно, как она туда поместилась. Танька всё боялась, что бабушка вывалится. И ждала, что бабушка вот-вот потянется и смущённо скажет: «Все бока отлежала. Гостей-то, гостей – а я всё на свете проспала. Дом не велик, а спать не велит».
Откуда-то появилась женщина мама, и стали они жить-поживать. Ночью девочка просыпалась от стонов с маминого дивана. Танька лежала с открытыми глазами и угадывала по голосам. Сегодня это дядя Володя, он каждый раз суёт Таньке размякшую в серебряной бумажке шоколадку. Танька опускает голову и от смущения обвивает ножкой ножку. Бабушка говорила: «Это привычка безвольных людей. Надо вырабатывать характер».
– Первый раз прощается! – прыгала на одной ножке Танька.
Бабушка так не считала. «С первого раза всё и начинается. Посеешь поступок – пожнёшь привычку. Посеешь привычку – пожнёшь характер. Посеешь характер – пожнёшь судьбу». И заставляла Таньку делать то, что ей не нравится – вырабатывать характер. Например, ходить по улице и всех спрашивать, который час. Или в магазине пробивать в кассе.
…А вот это дядя Серёжа, угадывала Танька. Он в упор не видит девочка, и пока мама торопливо одевает и спроваживает её на улицу – сердито барабанит пальцами по столу и деловито посматривает на настенные часы.
А это гадкий дядя Слава. Во время застолья он сажает Таньку на колени и запускает обе громадные руки ей в трусики: под скатертью не видно. Танька ёжится, хныкает, вертится ужом и пытается соскользнуть. Но дядя Слава подбрасывает её под мышки, возвращает на место и ещё крепче и ласковее зажимает её коленями. Таньке что-то подсказывает: ни в коем случае нельзя об этом говорить маме.
Сейчас у Таньки у самой есть маленькая дочка Лапка. Ей четыре года, и они условились не иметь друг от друга даже самого маленького секретика. Вечером Танька честно рассказывает, как прошёл день в поисках работы. С работой в маленьком городе худо, потому что работодателям не нужна одинокая мама с дитём. А Лапка, в свою очередь, лепечет про садик, про стишок, про песочницу, про маленькую драчку из-за куклы. Про то, что она вырастет и женится на новеньком мальчике из группы…
Лапка тоже рисует не домики и цветочки, а волков. И тоже, когда стесняется, заворачивает винтом ножку вокруг ножки.
***
По телевизору фифа хвасталась своим дворцом. Зала величиной с футбольное поле, это для сумочек: красных и синих, чёрных и белых, блестящих и матовых, мягких и твёрдых, летних и зимних, выходных и будничных, кожаных и меховых, больших как баулы и маленьких как бумажники…
Вот ещё более огромная зала для туфель, все полки уставлены. Видите «лодочки», они из крокодиловой кожи… Больше половины остались ненадёванными, придётся выбрасывать: вышли из моды.
А в этой зале собраны магнитики со всего света – слабость хозяйки… А здесь косметика для ухода: взгляните, какие сияющие, нежные руки.
На Тётикатины руки смотреть страшно: кожа иссушённая, потрескавшаяся, вены повылазили… Всю жизнь работала на кирпичном заводе, садчиком (садила брикеты в печь). Тётя Катя критически, по-женски взглянула на фифу. Если той сдуть губки, грудь и задницу, отлепить ресницы и накладные волосы – останется пшик. Два килограмма штукатурки.
Эх, видели бы вы Катюшу тридцать лет назад. Фигура – ни один мужик взглядом не пропустит. Белая без пудры, алая как зорька без румян, золотоволосая без краски из коробочки. Гребни в волосах трещали и ломались – во какие волосы! Один всё её гриву сквозь пальцы пропускал: Лорелеей называл.
Тётя Катя выключила телевизор и пошла в супермаркет «Спрут». У супермаркета, конечно, была другая вывеска, но уж больно это название подходило к нему, опутавшему щупальцами их маленький город и в большую область. Всю страну опутавшему.
***
В «Спруте» был уценённый отдел, где продавали развесные продукты. Обрезки колбасы, крупу и сахар из прорванных упаковок, молоко из подтекающих пакетов.
Ранним утром их стояло всего четыре покупательницы. Одной взвешивали кулёк манки. Другая пялилась в витрину. Ещё одна девчонка возилась в углу с детской коляской, отцепляя авоську. Тётя Катя по праву встала третьей – за той, что рассматривала витрину.
Однако девчонка так не считала. Пискнула, задрав носик: «Я пришла раньше», – и попыталась вклиниться впереди тёти Кати. Не на ту напала. Тётя Катя родилась, поднаторела, закалилась как сталь в эпоху нерушимых советских очередей. Ха, реденькие жидкие очередёнки к нынешним кассам – это ж насмешка, жалкое подобие, пародия на железобетонное, монолитное километровое стояние за 2 кг колбасы по талону. Твоя грудь тесно упирается в спину впереди стоящего товарища. Твой пах, как единственно возможный пазл, входит в упругость его ягодиц.
Сзади прижимаются так же плотно, сопят, елозят, и что-то горячее и твёрдое упирается в пугливую, невинную девичью попу… Твои изгибы идеально вписываются в изгибы чужого тела. Да и какое оно чужое? Спаялись, сроднились, слились, срослись каждой впадинкой, выпуклостью. Я помню все твои трещинки. Как говорится, честные люди после такого обязаны жениться.
Люди делают шажок вперёд – и ты вместе с ними. Люди качнулись назад – и ты послушно повторяешь движение. Есть в этом что-то завораживающее, гипнотическое. Очередь издаёт мощный, неумолчный океанский гул, шевелится, волнуется, дышит единой грудью. Это единый живой организм.
Вот так, милая. Тётя Катя смерила взглядом девчонку и встала как можно плотнее к покупательнице впереди. Один – ноль.
Танька – это была она – уже хотела скромно пристроиться хвостиком. Но вспомнила покойную бабушку. «Будь упрямой, стой на своём. Добивайся, чего бы тебе ни стоило, даже в мелочах. Помни: маленький поступок сеет большую привычку».
Предавать бабушку? Ни за что! И Танька независимо, параллельно встала с вредной бабкой. Чтобы притупить её бдительность, озабоченно рассматривала что-то на полках, тянула цыплячью шейку, щурила глазёнки.