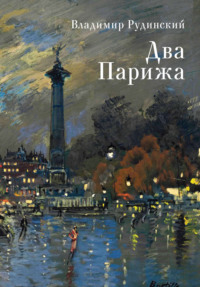Полная версия
Вечные ценности. Статьи о русской литературе
Бесспорно, если бы Солоухин, – проявлявший, однако, удивительную смелость, за что и имел серьезные неприятности, – написал то, что он пишет сегодня, при Сталине, его бы давно не было в живых. А он, вероятно, уже и тогда думал то же самое, что теперь. Но он, сжав зубы, проводил в печать только то, что было все-таки возможно; и тем делал большое, полезное дело.
Навряд ли и сам Медведев был, вплоть до нынешних горбачевских послаблений, вполне откровенен с властями. Еще менее правдоподобно, чтобы он был искренен в наши дни, продолжая служить интересам большевизма. Так что корить других неискренностью ему уж и совсем не пристало. Ему бы следовало оставить эти обвинения молодежи, пришедшей к сознательной жизни в момент падения культа личности; та может их бросать от души, – по незнанию или непониманию, какова была жизнь старшего, предшествовавшего ей, поколения.
«Наша страна», Буэнос-Айрес, 11 ноября 1989 г., № 2049, с. 3.Литература народов СССР
Солнечный владыка
Есть в русской литературе замечательный писатель Н. Тан (1865–1936). В жизни его звали Владимир Германович Богораз. Еврей родом, революционер, член партии народных социалистов (сравнительно умеренной), угодил он студентом в ссылку на Колыму. Ну да, та Колыма была не нынешняя! «Ссыльные жили коммуной… “Колымская республика” жила трудно, но ярко и весело, не унывая» (оно и не с чего бы…). В Сибири Тан стал беллетристом, этнографом и лингвистом высокого класса; его имя всем специалистам, русским и иностранным, в области изучения палеоазиатских народов, хорошо знакомо. Романы его как «8 племен», «Жертвы дракона», да и «Союз молодых», кто читал, не забудет: стоят Джека Лондона и Рони179. Большевикам он не слишком ко двору пришелся, и большой карьеры у них не сделал; хотя, как ученого, его поневоле ценили.
Подобного человека в монархизме не заподозришь. Но вот как он описывает представление чукоч о русском царе: «Эйгелин говорит, что Солнечный Владыка живет в большом доме, где стены и пол сделаны из твердой воды, которая не тает и летом – ну, вроде как тен – койхгин (“стеклянная чаша”). А под полом настоящая вода, в ней плавают рыбы, а Солнечный Владыка смотрит на них. И потолок такой же, и солнце весь день заглядывает туда сквозь потолок, но лицо Солнечного Владыки так блестит, что солнце затмевается и уходит прочь!»
О европейской же России они думали, как о «чудесной стране, откуда привозят такие диковинные вещи: котлы и ружья, черные кирпичи чаю и крупные сахарные камни, ткани, похожие по ширине на кожу, но тонкие как древесный лист, и расцвеченные разными цветами как горные луга весною, и множество других див». Спросим себя: не стояли ли эти «простодушные полярные дикари» (как их именует автор, в рассказе «Кривоногий», откуда мы выписали цитату) выше бессмысленно злобствовавшей тогдашней левой интеллигенции, не дышат ли их слова истинным имперским патриотизмом и подлинным верноподданническим чувством? Не зря в Евангелии сказано: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное!»
Сдается нам, анализ отношений к правительству инородческого населения России много бы способен был пролить света на дух и порядки великой и трагически погибшей Империи. Изучение же мифов и первобытных религий земного шара в целом (впрочем, не только и первобытных…) немало бы помогло вдумчивому исследователю понять, касательно самой сущности и корней монархической власти вообще.
Да на беду, в иных отношениях, и впрямь, как определил Пушкин: «Мы ленивы и нелюбопытны». Мы больше насчет социальных и экономических вопросов: будто уж они – главное! А не оторвавшись немного от земли (или не став, наоборот, на нее двумя ногами, вместо парения в абстракциях и отвлеченностях), право же, иные вещи, – важные и нужные— вовсе и уразуметь нельзя, ибо:
Есть многое на свете, друг Горацио,Что и не снилось нашим мудрецам…«Наша страна», рубрика «Монархическая этнография», Буэнос-Айрес, 4 июня 1983 г., № 1715, с. 3.Убивающие душу
В числе преступлений советской власти, – творимое ими над литературами национальных меньшинств. Те все равно бы сформировались, конечно, даже у народностей, не имевших письменности в старое время (а у многих была уже своя литература, или, по крайней мере, начатки таковой, еще при царе). Большевики их создание, пожалуй, и ускорили, – но какой ценой!.. Все, что у них издается, – сплошь серая пропаганда коммунизма. Когда пробиваются ростки чего-то подлинно национального, или индивидуального, лирического порыва или сюжетного мастерства, – то беспощадно затаптываются и выкорчевываются.
Кое-какие любопытные вещи из них, однако, можно и извлечь. Вот у хакасского поэта Г. Сысолятина180, в поэме «Аптекарь», описывается такое: Наследник Николай, будущий царь, проезжая через Красноярск, подойдя в музее к фигуре шамана с бубном, в бубен сам ударил. Представлена следующая реакция, на рассказ об этом происшествии, Ленина, в тот момент ссыльного в Сибири:
– Так значит, царь камлал?
– Камлал.
– Дурак! – и гость захохотал.
Ильич так и должен был, понятно, отозваться! Между тем, в жесте Николая Александровича выразилось глубокое уважение престолонаследника ко всем подданным Империи, даже самым примитивным, ко всем их верованиям и традициям, пусть и странным, экзотическим, трудно поддающимся восприятию европейца. Как известно, многого в России:
Не поймет и не заметит,Гордый взгляд иноплеменный…Но иначе смотрели российские государи. Строгий Николай Первый, когда ему передали дело о приношении черемисами лошадей и прочего скота в жертву языческим богам, наложил резолюцию: принимая во внимание детское простодушие обвиняемых, не накладывать на них никакого наказания.
В изданном в 1952 году романе бурята Читима Цыдендамбаева181 «Доржи, сын Банзара», об известном ученом и просветителе конца XIX века, Банзарове, любопытно изложение его беседы с соучеником по гимназии и земляком, Галсаном Жамбаловым, напоминающим ему о национальном достоинстве их народа: «Мы потомки великого завоевателя Чингисхана… Ты забыл, что солнце встает на востоке. Свет в Россию идет с востока» и добавляющим, что он склоняется перед Белым Царем и считает его воплощением Бога, и что он против тех, кто подтачивает Его престол. Банзаров ему отвечает: «Я сын бурятского народа, гражданин великой Российской Империи».
Другой бурятский писатель, Даширабдан Батожабай182, в романе «Похищенное счастье», изображает следующий эпизод. В Агинский дацан (монастырь), расположенный в Забайкалье, приезжает (в последние годы прошлого столетия) из Тибета старший учитель далай-ламы бурят Туван-хамбо. Он прибыл отстаивать «желтую веру» перед русским царем. Посланнику далай-ламы дается разрешение строить в Бурятии новые дацаны, укрепляя ламаизм.
Эта широкая, великодушная терпимость православной императорской России составляет убийственный контраст с беспощадным гонением на любые верования, на все религии, являющимся сущностью проклятого, кровавого советского строя.
«Наша страна», рубрика «Монархическая этнография», Буэнос-Айрес, 11 июня 1983 г., № 1716, с. 2.«Пермский край» (Пермь, 1990)
Название завлекает: еще бы, древняя легендарная Биармия, дороги из Руси в Сибирь, родина малоизученного финно-угорского племени, о котором так интересно писал еще А. Мельников-Печерский. Но читаешь оглавление, – и, право, хочется плюнуть и закрыть книжку!
«Памятные даты и события». Какие же? А вот: «К 120-летию со дня рождения В. И. Ленина»; «85 лет первой российской революции»; «К 45-летию победы советского народа в великой отечественной войне». Это все – даты скорби и позора, кровью вписанные в судьбы нашей несчастной земли! Да и всего человечества…
Отбросить данный «краеведческий сборник», не читая, было бы все же ошибкой. Есть в нем и относительно ценное, например, в отделе «Эхо дальних лет», статьи В. Мухина «Уральские крепостные и легенда о Беловодье», И. Сергеева «Камский Китеж» и И. Мюллера «Пути через Уральские горы».
Особо остановимся на очерке Г. Немтиновой «Забота о родном языке». Речь идет о коми-пермяцком языке, и автор начинает с жалоб, что мол в царское время «на территории Пермяцкого края» имелось много церквей и монастырей, но мало школ; а язык мол был вовсе заброшен. Однако она сама рассказывает, что: «Первые попытки создать коми-пермяцкую письменность относятся к концу XVIII века. Пермский священник Антоний Попов составил словарь и грамматику коми-пермяцкого языка. Впоследствии словарь и грамматику выпустили Федор Любимов, священник Евгинской церкви, и Ф. А. Волегов… Впервые на коми-пермяцком книги вышли в 60-е годы, XIX века. Это были жития святых, сделанные Н. А. Роговым и священником Авраамием Поповым из Кудымкара. «В 1860 году Рогов выпустил грамматику, а в 1869 году, в Санкт-Петербурге, “Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь”. Российская Академия Наук присудила автору премию».
Так что, в общем, дело-то обстояло не так уж и плохо. Просто, – до всего у России руки еще не доходили; а постепенно все нужное делалось.
А что принесла советская власть? В стихах В. Климова, поставленных эпиграфом к очерку, говорится:
Солнце революции великойПодарило нам тепло и свет.Но читаем, – и узнаем следующее: «В начале XX столетия выпускник Казанской учительской семинарии К. М. Мошегов перевел на коми-пермяцкий язык басни И. А. Крылова и “Сказку о рыбаке и рыбке” А. С. Пушкина, а в 1908–1909 годах напечатал “Букварь” и “Книгу для чтения”. Имя этого человека заслуживает большого внимания: он проводил археологические раскопки, изучал свадебные обряды, сказания, легенды, мечтал писать об устном народном творчестве и истории коми-пермяцкого народа, но в 1937 году был репрессирован»; «Активным участником перестройки жизни коми-пермяцкого народа был М. П. Лихачев… Он классик коми-пермяцкой литературы… У него были большие творческие замыслы, но претворить их ему не удалось: его жизнь была оборвана в 1937 году».
Подлинно, есть пермякам за что благодарить советскую власть! А может быть, все-таки, без нее-то лучше бы было?
Вот вам и другие ее подвиги:
«В 1931 году коми-пермяцкая азбука перешла на латинизированный шрифт. Дело было кропотливое, требовало большого напряжения, но время диктовало жестокие сроки, и необходимо было в них уложиться».
То есть, значит, сделали всех грамотных пермяков снова неграмотными! Многих, надо полагать, навсегда.
Потом же: «В конце 30-х годов для народов страны появилась необходимость создания массовой письменности и новых алфавитов на единой графической основе. Латинизированный шрифт не соответствовал перспективам развития межнациональных отношений».
Так зачем же его вводили?! Теперь: «Был подготовлен проект алфавита для коми-пермяков на русской графической основе». Иначе сказать, уже третий! «Новый алфавит был утвержден 7 августа 1938 года».
Ну и дальше что же? «В 70-е годы в связи с развитием двуязычия, многие национальные школы в округе были закрыты, обучение велось на русском языке… Дети посещают 131 школу, но ни в одной из них нет преподавания на родном языке. Коми-пермяцкий язык и литература изучаются только в педучилище».
Замечательные результаты! Так кто же, все-таки вел (и с успехом!) агрессивную русификаторскую политику, направленную на ликвидацию местного языка: царская власть или советская?
Мы так думаем, первенство тут решительно и безусловно принадлежит Софье Власьевне.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 18 мая 1991 г., № 2128, с. 2.Я. Кулдуркаев183, К. Абрамов184, Н. Эркай185. «Кезэрень пингеде эрзянь раськеде» (Саранск, 1994); И. Кривошеев186. «Кочказь произведеният» (Саранск, 1998)
Обе книги изданы в элегантных крепких переплетах и сопровождены прекрасными иллюстрациями. Название первой, содержащее три поэмы: «Эрьмезь», «Сараклыч» и «Моро Ратордо», по-русски означает: «О древних временах, об эрзянском народе», второй – «Избранное».
Из приложенных биографий мы узнаем, что двое из авторов подверглись большевицким репрессиям. Кулдуркаев провел в лагере 20 лет (и умер вскоре по выходе); Кривошеев отделался несколькими месяцами заключения, но вдоволь натерпелся истязаний и оскорблений.
Обоих обвиняли в мордовском национализме. Со свойственной советской системе противоречивостью, сперва маленьким народам России было позволено развивать свои культуру и литературу; а потом их стали за это с крайней строгостью преследовать. Помнится, мы где-то читали, что у черемисов под корень истребили местную интеллигенцию. Как видим, и у мордвы было немногим лучше.
Немудрено, что поэты обращали свой взгляд по преимуществу в прошлое, которое казалось более светлым (а возможно, и менее опасным, – хотя это и оказалось ошибкой).
«Песнь о Раторе» Никула Эркая (он же Николай Лазаревич Иркаев) переносит нас в седую древность. Мордвины живут среди глухих лесов, молятся языческим богам, охота для них один из главных источников существования; и капканы для зверей – самое важное искусство. Лес источник жизни; но в нем обитают могучие и недобрые духи; беда тому, кто попадает в их руки!
Поэма открывается увлекательным введением в стиле арабских сказок, сразу захватывающим внимание читателя.
Мы бы сказали, однако, что вторая часть повествования оставляет впечатление анахронизма, и потому слабее первой. История о жестоком наместнике и его свирепых солдатах явно принадлежит другой уже эпохе.
Эпическая поэма «Эрьмезь» (за которую сочинитель заплатил такой страшной ценой!) отчасти напоминает «Руслана и Людмилу»: превращения, чудеса, мотивы, взятые из фольклора (только не русского, а мордовского, где, впрочем, встречается немало сходных элементов). Как факт, первоначальное название и было «Эрьмезь ды Котова».
Эрзянский витязь Эрьмезь влюбляется в дочь мокшанского князька Котову. Но ее отец, коварный Пурейша, сперва задает ему всякие трудные поручения (типичный сказочный сюжет!), которые он все же выполняет, а потом пытается его обмануть. Эрьмезь похищает девушку и навлекает на себя мщение тестя, тот призывает на помощь враждебных соседей, половцев и русских, и в завязавшейся войне Эрьмезь в конце концов погибает.
Согласимся с негодующим восклицанием биографа о судьбе Якова Яковлевича Кулдуркаева, кандидата филологических наук И. Инжеватова: «Вот в какие времена мы жили!»
Короткая поэма К. Абрамова «Сараклыч» говорит о более ясно определенной эпохе: о татарских набегах и татарском иге, от которых мордва страдала наравне с русскими, а и то и хуже (мордовские народные песни полны о том воспоминаний). В борьбе с кочевниками мордовцы и русские действовали вместе, что здесь и показано.
Абрамов пишет исключительно ясным и прозрачным языком. Он, впрочем, не только поэт, но и автор нескольких романов в прозе.
К прошлому обращался и выдающийся эрзянский поэт Илья Кривошеев; но к прошлому уже более близкому. Положим, в его «старинной сказке» о непредусмотрительной девушке время действия определить нельзя; но персонажи носят уже христианские имена – Манюша, Алексей, – и даже местные названия отмечены русским влиянием; например, магическое озеро Зеркалка.
Напротив, в его пьесе «Олдокимень свадьбазо» («Свадьба Евдокима») время точно указано: 1880-е годы. Цепь не лишенных очарования картинок из сельской жизни, вплоть до включенных в нее остроумных частушек, отдельно напоминает «Сорочинскую ярмарку». Дочь богатого хозяина Катя избрала себе изо всех поклонников пастуха Олдокима и добивается своей цели с еще большей решительностью, чем ее суженый.
Лирические стихи Кривошеева, почти все небольшие по размеру, посвящены главным образом природе; реже любви. Иногда он отдает дань советским мотивам своего периода; но грешит он этим относительно немного.
Его ученик (не только в поэзии, он окончил педагогическое училище, где тот преподавал), А. Доронин рисует очень обаятельный образ Кривошеева в его биографии, озаглавленный «Илька Морыця» (псевдоним, которым пользовался Кривошеев; по-русски примерно «Ильюша Певец»).
Так, он рассказывает, что, ведя литературный кружок в училище, Кривошеев избегал критиковать, а всегда пытался отметить то удачное, что можно было найти в стихах начинающих поэтов и поэтесс, стараясь их ободрить к дальнейшему творчеству.
В целом, мы видим, что несмотря на испытания, литературная Мордовия пережила не без успеха ужасы советского строя. Будем надеяться, что с концом большевизма она сможет развернуться еще успешнее…
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 24 января 2004 г., № 2743, с. 3.Литературы Поволжья
В московском журнале «Дружба народов», № 9 за 1988 г., помещен большой репортаж чувашского литературоведа А. Хузангая «Право на наследство» с подзаголовком «Молодая финно-угорская поэзия Поволжья и Приуралья». Для нас ситуация, сложившаяся в культурной жизни данных народов, представляется особо важной потому, что речь идет о племенах, которые в рамках здравого смысла не могут (да вроде бы и не проявляют желания) отделиться от России; и притом таких, которые с нами тесно связаны принятой ими православной религией и опытом долгого общения.
Хузангай рассказывает, как он, выехав из Чебоксар, посетил города Йошкар-Ола (бывший Царевококшайск и затем Краснококшайск), Саранск и Ижевск, где имел беседы с местными писателями, выражая сожаление, что мог с их произведениями ознакомиться только в русских переводах. Впрочем, он уточняет, что: «Быть чувашским критиком, оказывается, большое преимущество в данном случае, ибо, как выражаются ученые мужи, “…по мере укрепления ислама в культуре татар и башкир, в разной степени расширялись и стабилизировались центрально- и среднеазиатские традиции, а среди чувашей – язычников и христиан – доминирующим стал субстратный слой финно-угорской культуры. В результате чуваши оказались наиболее бикультуральным этносом: сохраняя архаичный тюркский язык, они в то же время развивали культуру, во многих отношениях близкую к культуре финно-угорского мира”» («Болгары и чуваши», Чебоксары, 1984).
Жаль, что этюд Хузангая не охватывает зырянской литературы (кажется, как раз весьма богатой), не говоря уже о положении дел у пермяков, вогулов и остяков. Он ограничивается, как факт, черемисами (марийцами), мордвой и вотяками (удмуртами).
О новых веяниях, или вернее о пробуждении спавших сил, свидетельствует следующий пассаж, посвященный творчеству одного из молодых марийских поэтов, Анатолия Тимиркаева: «Есть у Тимиркаева замысел новой поэмы, тема которой снова память – на этот раз память о марийских поэтах поколения “отцов”, незаконно репрессированных в конце тридцатых голов, погибших на полях войны в сороковые (Олык Ипай, Йыван Кырля, Пет Першут, Шадт Булат, Яныш Ялкайн и другие). Словно ночные бабочки, тени этих вечно юных поэтов слетаются на свет лампы, стоящей на столе поэта конца восьмидесятых, совесть которого тревожит несправедливость их судьбы, и он ведет с ними долгий разговор. Их поддержка нужна Тимиркаеву сейчас, когда поэтическое слово проходит испытание на ветру гласности. Хочу только пожелать, чтобы автор нашел в себе душевные силы воплотить трагедию того поколения, не оставляя места недомолвкам и полуправде».
Те же проблемы, что и у нас!
С этими образами перекликаются цитируемые далее оценки венгерского литературоведа Петера Домокоша: «Исследователь отмечает конец 30-х годов, когда “литература национального духа и социалистической гражданственности была разделена: национальная ветвь погибла, политическая исказилась…”».
Как формулирует сам Хузангай: «Репрессии конца 30-х годов, последующая война уничтожили самую активную часть творческой интеллигенции в автономиях Урала и Поволжья… другим навешали ярлыки… третьих обрекли на длительное молчание и открыли дорогу спекулятивному словоблудию, которое всячески отмежевывалось от национального».
Но есть и другие, более специфические проблемы, завещанные предшествующими годами, – теми, которые нынешняя под-советская печать именует временами культа личности и застоя: «Последовательно, на всех ступенях надо осуществить коренное улучшение преподавания марийского языка н литературы. Это первый шаг на трудном пути».
Хузангай приводит слова черемисского литературоведа А. Васинкина: «Серьезные проблемы связаны с литературной критикой. Мы же не имеем возможности назвать белое – белым, черное – черным. Критика конкретная, с называнием фамилий авторов, жесткая и нелицеприятная, не в чести. А с другой стороны, вот два наших молодых прозаика выступили в журнале “Ончыко” с повестями (Алексей Александров – “Узел сердец”, Геннадий Алексеев – “Сиротская душа”), попытались поглубже заглянуть в душу человеческую, острее, чем привычно, поставить проблемы современного села. Это была попытка прорвать традицию вторичной “деревенской” прозы. Наша критика встретила ее в штыки, она подошла к этим вещам с критериями чуть ли не 20-летней давности. “Городской”, “молодежной” прозы у нас нет. Молодые (к названным именам можно прибавить имена Валерия Берлинского, Геннадия Гордеева) приблизились, скажем, к некоторым “запретным” в контексте местной ситуации темам (брошенные дети, алкоголизм, более открытое изображение интимной сферы). И тут же посыпались обвинения чуть ли не во фрейдизме, натурализме, порнографии. Хотя у них через интимное, через сферу эмоций, просвечивают как раз социальные проблемы”».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Капитан Павел Хлопов – персонаж рассказа Л. Н. Толстого «Набег», упоминающийся также в рассказе «Рубка леса».
2
Пьер Милль (Pierre Mille; 1864–1941) – французский писатель, журналист. Один из учредителей и президент Ассоциации колониальных писателей.
3
Клод Фаррер (Claude Farrère; наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876–1957) – французский писатель. Автор популярных приключенческих, фантастических и детективных произведений. Член Французского комитета защиты преследуемой еврейской интеллигенции и Ассоциации защиты памяти маршала Ф. Петена; председатель Союза писателей-комбатантов. В 1959 была утверждена литературная премия его имени.
4
Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) – журналист, политический деятель. Революционер, член партии и боевой организации эсеров. С 1919 в эмиграции, сначала во Франции, затем в США, где до конца жизни жил в Нью-Йорке. Издавал журнал «За свободу», сотрудничал в газете «Новое русское слово» и «Новом журнале».
5
Cum grano salis (лат.) – с оговоркой, с осторожностью.
6
Владимир Пименович Крымов (1878–1968) – писатель, журналист, издатель. До революции издавал иллюстрированный журнал «Столица и усадьба», сотрудничал в «Новом времени» А. С. Суворина. В эмиграции жил во Франции. Автор многочисленных романов, рассказов и очерков.
7
Стефан Жеромский (Stefan Zeromski; 1864–1925) – польский писатель, драматург. Представитель польского критического реализма. Его роман «Пепел» был экранизирован режиссером А. Вайдой.
8
Миколай Рей (Mikolaj Rej; 1505–1569) – польский писатель, поэт, общественный деятель. Один из основателей польской литературы; автор сборников стихов и эпиграмм «Зверинец» и «Зерцало».
9
Ян Кохановский (Jan Kochanowski; 1530–1584) – польский поэт эпохи Возрождения, сыгравший значительную роль в развитии польской поэзии.
10
Луиш де Камоэнс (Luis Vaz de Camoes; 1524–1580) – португальский поэт, драматург, один из основоположников современного португальского языка. Автор эпической поэмы «Луизиада».
11
Михаил Никифорович Катков (1818–1887) – издатель, критик, публицист, тайный советник. Редактор газеты «Московские ведомости».
12
Болеслав Михайлович Маркевич (1822–1884) – писатель, публицист, литературный критик. Наиболее известным его трудом является трилогия, объединяющая романы «Четверть века назад», «Перелом» и «Бездна».
13
Василий Григорьевич Авсеенко (1842–1913) – писатель, критик и публицист, действительный статский советник. Служил чиновником особых поручений в Министерстве народного просвещения. Издатель «Санкт-Петербургских ведомостей». Публиковался в журналах «Заря», «Русский вестник», газете «Русский мир». Наиболее известны его романы «Из-за благ земных», «Млечный путь», «Скрежет зубовный».