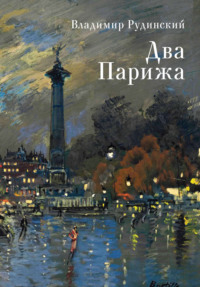Полная версия
Вечные ценности. Статьи о русской литературе
Например: «На месте стадиона был когда-то патриарший пруд, с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревами вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаками и землей, вынутыми из-под фундамента новостроек». Или вот рассуждения о жизни одного из самых положительных персонажей, крестьянина Маркела Тихоновича, тестя главного героя: «Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели».
Горькой иронией звучат рядом голоса уже состарившихся подружек его жены, принадлежавшей в молодости к тому классу, который И. Л. Солоневич именовал «активом»: «Худа жись была. Отсталость. Темнота. Теперь што не жить? Елестричество кругом. Телевизир смотрим…»
Но еще страшнее, еще безрадостнее выглядят результаты коммунистического просвещения, отраженные в речах неплохой в сущности деревенской девушки, прошедшей курс средней школы в своем захолустье: «Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной и отсталой философией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя». Или, о Пушкине: «Паша вдохновенно обличала высший свет и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыла графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно».
Но не было ли все это еще вчера, да и не остается ли и сегодня последним словом марксистской науки?
Отметим, что пушкиноведческие исследования товарища Эйдельмана тоже ведь выдержаны в том же тоне (хотя и потоньше). Как же было ему не рассердиться?
Слава Богу! Мы видим, что массы подсоветской России сию гнусную премудрость не только что не приняли, а от нее, наконец, и вслух отрекаются! Это и есть духовное возрождение; это и есть пробуждение живых и здравых национальных сил. Остальное – приложится.
Вот отчего взбеленилась та тварь, каковую мы выше и поименно обозначили. Натянутые обиды на антисемитизм (которого в романе Астафьева и в помине нету!) – дело второстепенное, грех его в том, что он посмел посягнуть на их устои, на то, без чего их, – левых образованцев – власть распадется во прах (она и распадается…).
Оттого и взвыла нечисть, и взвились на черных крыльях вампиры-нетопыри. Да поздно! Такие слова, раз произнесенные громко, – точнее выражаясь, отпечатанные солидным тиражом в томике, расхватанном публикой, – не заглушишь. Это надпись, какую, согласно пословице, и топором не вырубишь.
Притом же… Разве Астафьев одинок? То же самое, пусть и в других словах, сказали уже немало других. Стоит ли имена перечислять? Большинство писателей-деревенщиков (да и некоторые из иных писателей) внутри СССР; кое-кто и за рубежом.
Кое-что в романе, казалось бы, должно бы прийтись по нраву плюралистам и всяческим русофобам: суровое изображение пьянства, хулиганства, бессмысленного безобразия, разврата среди молодежи. Но нет! То, да не то. Проницательных недругов на мякине не проведешь. Рядом с плохим, показано и хорошее; даже у злодеев, а тем более в отношении к ним окружающих, пробивается то, что клеветникам России нужно отрицать и скрывать. В строках «Печального детектива» отчетливо бьется:
Золото, золото… Сердце народное…
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 8 августа 1987 г., № 1932, с. 2.Писатель русской земли
1. Всяк сущий в ней язык
В сборник новых сочинений в прозе В. Солоухина171 «Смех за левым плечом» (Москва, 1989), помимо повести, носящей вышеприведенное заглавие, включено еще 3 раздела, все чрезвычайно интересные: «Рассказы разных лет», «Сосьвинские мотивы» и «Ненаписанные рассказы». Остановимся на среднем из них.
Автор описывает поездку в Ханты-Мансийский национальный округ, предпринятую им вместе с его другом вогульским поэтом Юваном Шесталовым, и в компании с профессором будапештского университета М. Варгой.
С первых строк мы погружаемся в атмосферу теплоты и сочувствия русского писателя к народу манси, от которого осталось теперь примерно 7000 человек (тогда как до революции было гораздо больше; по иным подсчетам до 18000 человек). Манси или вогулы, как известно, принадлежат к финно-угорской расе, и в ее рамках являются ближайшими родственниками венгров.
Политику советской власти в отношении вогулов Солоухин резюмирует следующим образом: «У нас привыкли говорить примерно так: “Отсталый некогда край сделался индустриальным”. К этой формуле мы привыкли. Но ведь если в приуральскую тайгу врубились нефтяники и газопроводчики с тяжелой современной техникой, это что же манси развивают свою индустрию? Да нет, просто это на месте их обитания действуют нефтяники и газопроводчики».
А как эти последние и вообще советская власть действуют, он рассказывает и подробнее: «Быть богатым – не значит быть расточительным. Из кладовой природы надо бы брать столько, чтобы она не скудела. А у нас на протяжении десятилетий один только лозунг был: давай, давай, давай! Черпаем пригоршнями, торопливо, как будто дорвались до чужих сокровищ и задача – как можно больше и как можно скорее нахватать. Это не только рыбы касается. А с лесом – разве не так? Руби, вали, – выполняй план. А то, что 3-я часть древесины остается невывезенной, а также в виде верхушек, пней, сучьев, а также в виде топляка в сплавных реках, это – пустяки. Много всего. Что-нибудь да останется. А нефть? Вся Западная Сибирь искорежена, изрыта, истерзана торопливыми нефтепромыслами. Тоже половина мимо кармана сыплется. Если бы так было где-нибудь… там, у них… в Африке… Наши газеты писали бы, что это хищническое отношение к природным богатствам».
И дальше, с еще большею горечью: он подытоживает: «Когда говорят, что повысилась техническая оснащенность охотничьего и рыболовного хозяйства, это вовсе не означает, что охотники и рыболовы манси имеют теперь больше соболей или нельмы, но что их руками все больше и больше добывается богатств из их лесов и рек… А сами они… Ну что же сами… Не в соболях, конечно, ходят, в стеганках и треухах из искусственного меха… А если манси, живущий на этой реке потомственно, из поколения в поколение, добудет соболя или нельму и не сдаст ее государству, то это уж будет браконьерство, и карается оно по всей строгости законов, вплоть до тюрьмы».
Спросить об этом самих вогулов? Послушаем Ю. Шесталова172: «Один венгр» – говорит Юван, – «написал в финском журнале статью “Пропасть между поколениями приобских югров”. Там он задал риторический, каверзный вопрос: “Можно ли помочь народу, который сам этого не хочет?”» «А ему не пришло в голову» – продолжал Юван» – «что может быть народам Севера нелегко? Севера, из недр которого черпают нефть и газ, топчут землю железными сапогами машин и трубопроводов, изводят из рек рыбу, из тайги зверя, а людей сгоняют в большие селения, где вместо зверя люди принуждены охотится за бутылками…»
Не удивительно, что однажды, потеряв терпение в споре с мелким администратором, Шесталов взрывается нижеследующим монологом: «Куда вы дели всех наших лошадей?!! Куда вы дели всех наших коров?! Куда вы дели всю нашу рыбу, наших оленей, наших соболей, наших медведей, наши игрища, наши танцы, наши песни? Где наша нельма? Где наш муксун? Где наша сосьвинская селедка? Где наши осетры? Мы их не видим. Манси питаются килькой в томате! Где наши рябчики и глухари? Где наши гуси и утки? Где наши праздники, где наши ярмарки?»
Все это, дай в руки русофобам, с какою радостью они бы обратили против русского народа и употребили бы для агитации за расчленение России (хотя куда вышли бы из России вогулы и прочие маленькие народности Империи?)! Но Солоухин сам русский патриот, и он мыслит иными категориями. Выше была речь о противопоставлении вогульского народа советской власти. А вот как складывались (в передаче самих вогулов) его сношения с русским народом, – с настоящим русским народом: завезли на Сосьву раскулаченных. «Гибли они как мухи. Начали, кто оставался жив, зарываться в землю. Приходили на наши стойбища скелеты скелетами. Подкармливали их наши, особенно с детишками на руках. До весны коротали они в норах. Потом, кто выжил, стали строить домишки. С весны начали землю ковырять, каким-то непостижимым образом появилось у них земледелие. Потом, когда у нас самих начался голод, мы уже к ним за пропитанием ходили. Они подавали нам картошинку… кусочек хлебца…»
Не следует, однако, думать, будто Солоухин специально симпатизирует именно одним вогулам. Сходные слова понимания и сочувствия он находит и для других племен нашего отечества. Вот в этом же самом сборнике очерк «Главный лама Советского Союза»:
«В Бурятии было 36 древнейших и богатейших буддийских монастырей-дацанов. В них хранились старинные тибетские книги, драгоценная утварь и бесчисленные культовые произведения искусства, главным образом статуи, скульптурные изображения Будды во всем их разнообразии, других божеств, паломников. Не говоря уж о том, что много было золота, драгоценных камней. Не говоря уж о том, что сама архитектура древних дацанов представляла собой огромную ценность.
В 1936 году все 36 буддийских монастырей в Бурятии были уничтожены и стерты с лица земли. Ценность погибшего, историческую, художественную и просто материальную, невозможно вообразить. Рассказывали, что страницами древних тибетских книг были устланы целые поля».
Кроме того, приведем, например, отрывок из пользующегося заслуженною известностью открытого письма Солоухина по поводу «Мемориала» (опубликованного первоначально в журнале «Наш Современник»): «Куда, к какой географической точке привязать, если бы захотели воздвигнуть, мемориал мученикам Украины, Кубани и Поволжья, Сибири и русского Севера, скотоводам Казахстана и Киргизии, садоводам Таджикистана, труженикам-узбекам, кавказским народам, белорусам, крестьянам коренных российских губерний?»
Скажем еще, что к армянам и грузинам наш писатель питает, определенно, особую слабость; в их обычаи и традиции, вплоть до одежды и кухни, он старательно вникает в целом ряде очерков. Кавказских же поэтов, аварского Р. Гамзатова и кабардинского А. Кешокова173, Владимир Алексеевич даже переводил в стихах.
Из тех плюралистов, которые так громко требуют сейчас из-за границы распыления России на сотню кусков, стараясь натравить на русских все остальные народности СССР, у кого есть перед данными племенами такие заслуги, как у Солоухина? Кто из них изучал всерьез быт угро-финских или палеоазиатских народов, кто переводил творения местных поэтов? Когда уж они все же говорят о лопарях, чукчах или эскимосах, то, обычно, в тоне глумливого презрения, с фыркающею насмешкой (вспомним, на сей счет, кой-какие высказывания Л. Друскина и Ю. Гальперина). Представляю читателю сделать вывод о том, у кого более человечный и справедливый подход к национальным проблемам России: у считаемого ими за реакционера Солоухина, или у самих этих псевдо-либералов.
Замечу заодно, что события-то в Советском Союзе упорно развиваются не так, как бы этим последним хотелось: когда имеют место межэтнические столкновения, то не между инородцами и русскими (как бы того хотелось плюралистам и их американским хозяевам), а совсем иначе; между армянами и азербайджанцами, между месхами и узбеками, причем русским приходится их разнимать.
«Наша страна», Буэнос-Айрес, 12 августа 1989 г., № 2036, с, 1.2. Край родной долготерпенья
Владимир Алексеевич Солоухин одарен, по-видимому, от природы, талантом рассказчика. О чем бы он ни писал, – будь то о посещении им китайского ресторана в Париже или об автомобильной катастрофе, приключившейся в его родном селе Алепине, – нам всегда интересно, и мы с увлечением следим за его повествованием.
К своим произведениям он вполне имел бы право применить то, что говорит по поводу С. Аксакова: «Давайте считать занимательной такую книгу, от которой невозможно оторваться, пока не прочитаешь ее от начала до конца, а прочитав последнюю страницу, до слез сожалеешь, что книга кончилась, что нет и никогда не будет ее продолжения».
Именно такое чувство и испытываешь, закрывая главные вещи Солоухина: роман (почему-то, увы, единственный у него!) «Мать-мачеха», очерки «Владимирские проселки», «Славянскую тетрадь», «Черные доски», сборники рассказов, афоризмы, соединенные под общим заглавием «Осенние листья», да и все, что вышло из-под его пера.
Пишет Солоухин на самые разные темы, в различных жанрах. Но можно проследить в его творчестве ведущую нить, главную (или, во всяком случае, одну из главных) линию: острую скорбь о том, что большевики сделали с Россией, с русским крестьянством, с памятниками нашей старины, с национальной нашей литературой, с духом и характером русского народа.
Отметим мимоходом, что он, бесспорно, стоял у истоков создания движения, известного теперь как «Память» В сборнике его критических статей, выпущенном в 1976 году, «Слово живое и мертвое», в короткой заметке «Пожар осветил», он говорит: «Давно пора создать всесоюзное добровольное общество по охране памятников старины», и с грустью добавляет в сноске: «Теперь такое общество существует, что, впрочем, не помешало быть взорвану собору в центре Брянска».
К предмету разрушения неповторимых ценностей искусства, он возвращается раз за разом. Приведем как пример короткий рассказик «Изъятие красоты». В нем автор беседует с неким советским работником музея в Вологодской области, и тот, показывая ему на старинный монастырь, с ободранными куполами и сбитыми крестами «хвастается перед приезжим человеком»: «Видите купола, это я их так», и на недоуменный вопрос «Зачем?», разъясняет: «Не наша это была красота, чужая, чуждая». А на возражение упрямо повторяет: «Мы смотрели иначе: прошлое – значит, чуждое, подлежит ликвидации, и никаких гвоздей». Из дальнейшего же мы узнаем, что во всем городе за годы советской власти не было построено ни одного мало-мальски красивого здания…
Однако, Солоухин, – не будем забывать, что он не только прозаик, но и поэт, – еще лучше выразил все это в стихах:
В черную свалены ямуСокровища всех времен:И златоглавые храмы,И колокольный звон.Усадьбы, пруды и парки,Аллеи в свете зари,И триумфальные арки,И белые монастыри.К тому же сюжету приводит нас миниатюра «В старинном селе». Степан Ильич, первый председатель сельсовета, который некогда устанавливал в родных местах советскую власть, вспоминает, как громил церковь: «Согнали народ на площадь, образовали круг. В круг положили все, что напоминало о старом: иконы, вышитые ризы, всякие деревянные статуи, книги по пуду в каждой, в кожаных крышках… Я пучок соломы подложил… Бутыли керосину не пожалел. За полчаса прополыхало… Которые плачут, которые крестятся, которые так стоят. Но чтобы кто-нибудь что-нибудь – ни-ни. Ну, правда, у меня наган на боку. И милиционер ради такого случая».
Его же описание прежней жизни села вызывает у героя, от лица которого ведется рассказ вопрос: «Куда же все подевалось, Степан Ильич? И девять чайных, и семь лавок, и рубленая печенка, и рубец с чесноком, и чай парами, и баранки, и лещевая икра в огромных кадках, и уха, и солянка, и пасеки, и медовое сусло, да и… пиво?» – «Кто-е знает» – отзывается советский бюрократ, – «Расточилось как-то все. Было – и нет. Как приснилось».
В другом, гораздо большем по объему, рассказе «Первое поручение» советский администратор Петр Петрович Милашкин живописует свои подвиги времен раскулачивания. И когда писатель спрашивает, за что он выкинул из дома в мороз, на гибель, крестьянскую семью, тот сбивчиво пытается растолковать: «Нет, ты неправильно ставишь вопрос. Не его одного ведь. Сейчас стало известно пять или шесть миллионов семейств. Как это – за что? Тогда об этом не разговаривали. В 24 часа… Ну… За что, за что? За то, что он подошел под рубрику, “ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллективизации”».
В том же рассказе Солоухин цитирует воспоминания своего приятеля из большого приволжского села: «У них будто было три волны. Первая унесла двух действительно богатеев. Потом пришла разверстка раскулачить еще восемь хозяев. Стали думать, скрести в затылках. Кое-как набрали, наметили мужиков поисправнее. О злостных здесь не было и речи. Ладно, увезли и эти восемь семейств. И старики, не слезавшие уже с печи, и младенцы из люлек, и девушки на выданье, и парни, и женщины с заскорузлыми от земли и воды руками – все пошли в общие подводы, все канули в беспредельную метельную ночь. Но оказалось, на этом не кончилось. Вскоре поступила новая директива – дораскулачивать еще одиннадцать крестьянских хозяйств. Правда, село большое. Но ведь два, да еще восемь, да еще одиннадцать… Всю ночь заседали, прочесывали списки вновь и вновь, ставя против иных фамилий зловещие, отливающие железом, жирные галочки». Для жертв это означало следующее: «С собой придется взять только то, что на себе, все добро останется в доме, который теперь уж не твой, и все, что в нем теперь останется, – теперь не твое, и вся жизнь, прожитая в доме и тобой, и отцом, и дедом».
Как бы итог – и до чего же трагический и жуткий! – подводит писатель в повести «Сосьвинские мотивы»:
«Если бы существовала единица измерения человеческих страданий (на тонны, на мегатонны), то все равно не хватило бы никакой шкалы измерить человеческие страдания на территории страны в 18-е,19-е, 20-е годы, в 30-е годы, в военные годы, произошел бы новый всемирный потоп, затопило бы весь земной шар вместе с Эльбрусами, Эверестами, Килиманджарами. Тиф и гражданская война, “расказачивание” России и соловецкие лагеря, голод на Украине и в Поволжье 1933 года (более семи миллионов человек), инспирированный, кстати сказать, голод, лагеря 30-х и 40-х годов… С верхушкой затопило бы Гималаи и сам Эверест. Боже, и Ты все видишь?»
Пытаясь осмыслить судьбу раскулаченных, автор продолжает: «Но за что? Теперь, впрочем, уже мало у кого может возникнуть вопрос: “За что?” Тогда надо спрашивать, за что люди гибли в 20-е годы, за что они гибли на Соловках, а позже и в других лагерях. За что они гибли от голода в 1933 году, за что лучшая часть российской интеллигенции оказалась в изгнании, в эмиграции, за что, за что, за что? Перечнем вопросов можно исписывать целые страницы. За что, скажем, умер от истощения в 40-летнем возрасте Блок, за что был поставлен перед жестокой необходимостью смерти Сергей Есенин. Надо теперь задавать уже другой вопрос:
Ради чего?
Ведь когда энтузиасты махали шашками и трясли наганами да маузерами в начале 20-х годов, все они махали шашками (и выкрикивали перед эскадронами) “за светлое будущее!” Не может не прийти в голову, что наши дни с очередями в магазинах, с нехваткой продуктов и жилья, с алкоголизмом, с нижайшими урожаями и надоями, с нижайшей производительностью труда и некачественной продукцией, с эпидемией рок-музыки и “видиков”, с наркоманией, с абортами школьниц – это и есть ведь то самое светлое будущее, ради которого махалось шашками. Не на тысячу же лет они заглядывали вперед, да и на 70-то едва ли заглядывали. Какие там – 70! Вот кончится гражданская война – и светлое будущее. Вот вывезем “кулаков” из деревни – и светлое будущее. Вот выполним пятилетку и светлое будущее. Вот разоблачим, расстреляем “врагов народа” и – светлое будущее, вот кончится война и – светлое будущее…»
Можно ли составить более страшный, более убийственный обвинительный акт против большевизма?
«Наша страна», Буэнос-Айрес, 19 августа 1989 г., № 2037, с. 1.3. Наперекор стихиям
Наши плюралисты, по всему Зарубежью, сосредоточили ныне свой огонь на Солоухине. Это, в некотором роде, комплимент: до сих пор подобная честь оказывалась одному Солженицыну. Почему перемена прицела? Оно отчасти понятно: Александр Исаевич уже давно молчит (хотя нам всем так бы хотелось его слово услышать!) о главных проблемах сегодняшнего дня: о перестройке, о гласности, обо всем, происходящем в СССР.
Атаки, посыпавшиеся на него в эмиграции, интересны тем, что благодаря им выявляется, в известной степени, расщепление оной на два фронта: национальный и антинациональный. За Солоухина явно высказываются «Наша Страна», «Голос Зарубежья», «Русская Жизнь», «Грани» и «Континент»; против него – «Новое Русское Слово» (устами О. Максимовой) и «Круг» (устами М. Михайлова). «Русская Мысль» распространяет, в виде своего приложения, под-советский бюллетень «Гласность», где небезызвестный русофоб Г. Померанц174 специально ярится и аж беснуется против Солоухина. Тогда как в «Посеве» В. Казак175 его вроде бы и защищает, но так вяло и двусмысленно, что лучше бы не надо совсем.
Самому-то писателю, вероятно, заграничные нападки безразличны: он более сильные удары привык получать от властей на родине. И, можно сказать, за дело! Значительная часть его литературной работы падала на периоды культа личности и застоя; и уже тогда нельзя было не дивиться смелости его высказываний, совершенно необычной в советских условиях.
Когда-то меня поразило одно место в выпущенной в 1972 году «Славянской тетради» (описывающей путешествие по Болгарии), где изображался разговор автора с типичным совпатриотом из среды старой русской эмиграции (а уж эту публику я как хорошо знал по Парижу, в котором она была богато представлена в первые годы после войны!). Желая подольститься к советскому туристу, тот стал ему ругать царскую Россию: «Ну что же Россия… бездарные и продажные генералы… Офицеры – без чести и совести» – и почти с ужасом услышал от гостя из СССР такую отповедь: «Позвольте, неужели так уж все бездарные и продажные? К тому же без чести и совести? Не будем брать ну там Суворова, Кутузова, Нахимова, Макарова, Корнилова. Это – хрестоматия. А храбрость Багратиона, а мужество и удаль Дениса Давыдова, а Тушин в описании Льва Толстого, да и сам Лев Толстой – офицер Севастопольской кампании. Вы живете в Болгарии, наверное, вы знаете, что здесь существует парк Скобелева. Вы знаете, что, когда Скобелев вел войска на приступ, у него вражескими пулями перешибло саблю. Притом он всегда на белом коне. А морские офицеры “Варяга”… Напротив, мне казалось, да и из литературы известно, что существовали понятия о чести, может быть, слишком уж жестокие…»
В те годы это звучало совершенно необычно. И между тем, я учитывал давление цензуры. То самое, о котором писатель теперь сам рассказывает нам в очерке «Как редактировали мою статью о Тургеневе», начинающемся фразой: «Сейчас положение таково. Одну фразу, которая была бы потом опубликована без изменения, я написать не могу. Но если я напишу страницу, то неизбежно придется там при опубликовании что-то смягчать, сглаживать, округлять, а то и вовсе вычеркивать». И продолжает, излагая свой опыт: «Правка была очень хитрой. Дело отнюдь не в объеме вычеркнутого. Там фраза, там полфразы, там и абзац, там пол-абзаца. Можно отлить половину вина, однако оставшаяся половина сохранит все вкусовые качества напитка, терпкость, аромат, и т. д. Но можно как-нибудь вытянуть из него некоторые компоненты (как соль из супа) и вкус резко изменится, при том, что по объему вроде бы и не убыло».
Далее он комментирует: «Возникает вопрос, почему же авторы соглашаются с такой правкой, с коверканьем и урезанием своих вещей?.. А что же им остается делать? Ведь печататься надо, хотя бы для того, чтобы жить. Кроме того, ну вот взял бы я тогда, в 1957 году, “Владимирские проселки” и положил бы их в стол. Взял бы в 1966 году, “Письма из Русского Музея”, взял бы в 1969 году “Черные доски”, и лежало бы все это у меня в столе. Во-первых, эти вещи не работали бы все эти годы (пусть хоть и не в полную силу), не влияли бы на сознание людей, а во-вторых, и меня самого, такого, какой я сегодня в читательском сознании есть, не было бы на свете».
И отлично, что он так сделал! Зато мы имеем, и вся Россия имеет замечательного писателя, оказавшего при том огромное и благотворное воздействие на читательскую массу.
Цензура была свирепая: «Когда журнал “Москва” взялся опубликовать “Черные доски”, мы, уединившись с главным редактором, вычеркнули из рукописи 151 место. Тоже все понемножечку да понемножечку, там словечко, там два, там целую фразу. Но ведь 151 место!» Впрочем, Солоухин рассказывает: «Кто-то из редакторов мне однажды сказал: “А чего ты боишься? У тебя же сколько фраз и слов не вычеркивай, дух все равно останется. Он же разлит по всем словам и фразам”». Умный был редактор, и попал в точку.
А дух-то, подлинно русский дух, подсказывал вещи вовсе противопоказанные большевизму: защиту крестьянства и его традиций («Владимирские проселки»), апологию православия и призыв к сохранению церквей и икон («Черные доски»), к обереганию и восстановлению дворянских гнезд («Время собирать камни»), осторожное выражение симпатии к русской эмиграции. Да и еще другое, гораздо худшее с точки зрения коммунизма: Солоухин много лет носит перстень с портретом Николая Второго (сделанный из золотой монеты царского времени). Как он объясняет «Здесь не место рассказывать о побуждениях, вернее о глубине побуждений (пожалуй, это, чтобы быть понятным, потребовало бы исповеди на десятках и сотнях страниц, каковую я и написал еще в 1976, и каковая существует – не скажу где – в виде рукописи в 500 страниц)». Будем надеяться, что ее со временем прочтем!