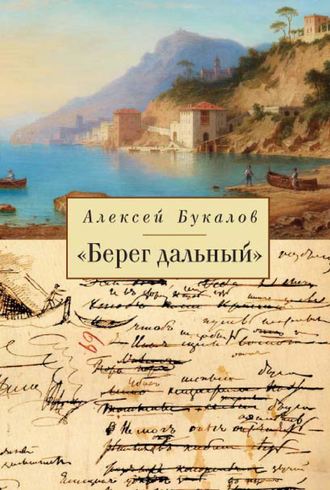
Полная версия
«Берег дальный». Из зарубежной Пушкинианы
Кажется, это написано о самом Пушкине, вернувшемся к светской жизни после долгих лет ссылки!
Начинается линия графини Д., и здесь раскрываются особенности положения Ибрагима, связанные с его внешностью и происхождением: «Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием» (VIII, 4–5).
Среди этого повествования, напряженного, полного тонких психологических наблюдений и чем-то напоминающего пушкинский же рассказ о поэте из «Египетских ночей», в иронической ремарке от первого лица («почти единственная цель наших усилий») вдруг как из-за кулис выглянул сам автор – знаток света и сердцевед. А мы продолжаем знакомиться с Ибрагимом: «Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен: он понравился графине Д., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову, и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал или видел одно кокетство» (VIII, 5).
Это замечательная деталь – раненый Ибрагим: она, во-первых, сообщает читателю дополнительную биографическую подробность, во-вторых, как бы перекидывает мостик к другому арапу, страдавшему от ран, полученных в европейских войнах, – к венецианскому мавру Отелло («она его за муки полюбила…»). Мы еще вернемся к этой параллели…
Парижская «любовная» новелла – маленький пушкинский шедевр. Вот как ее оценивает Л.И. Вольперт, одна из первых сопоставившая образы царского арапа и венецианского мавра: «Обаятельный человеческий облик Ибрагима в любви раскрывается со всей полнотой. В отношении к графине проявляются его душевное благородство, верность и альтруизм. Анализ его чувства, от момента возникновения страсти до рождения черного ребенка, – блестящий образец новаторского психологизма. Пушкина. Без всякой чувствительности и дидактизма, с редким лаконизмом и тактом отмечены все этапы развития страсти <…> С новаторской смелостью Пушкин изобразил земную и «грешную» страсть как высокое и чистое чувство. Весь этот отрывок, сверкающий как драгоценный бриллиант в ткани исторической повести, – подлинное открытие в русской литературе. Любовный эпизод романа с его тонким психологизмом прокладывал путь новой поэтике, вел к жанру «светской повести» и «Повестям Белкина»211.
Важнейший момент для характеристики Ибрагима – его отношение к своей второй родине – России. Он намеревается «оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга» (VIII, 7).
Отъезду Ибрагима предшествует сцена у герцога Орлеанского: «Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что он предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит своего питомца212. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. “Подумайте о том, что делаете, – сказал ему герцог, – Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения”. Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении»213 (VIII, 8).
Пушкин опирался в своем рассказе на «семейственные предания». Вот как завершается французский этап «немецкой» автобиографии А.П. Ганнибала: «…Заметные преимущества, которые Франция в те времена имела перед Россией, тогдашняя роскошь двора и даже климат, более благоприятный природе африканца, представляли для него столько неотразимой прелести, что он не сразу последовал вызову на север и в течение еще двух лет отговаривался то еще не полным освоением всех математических наук, то плохим состоянием здоровья, и все откладывал свое возвращение. Настоящая причина этой проволочки не могла укрыться от проницательного государя. Он написал регенту, что Ганнибала к своей службе не неволит и настоящим предоставляет ему полную свободу действовать по собственной совести и доброй воле. Герцог показал ему письмо государя. Это вновь оживило в нем признательность…»214
В своем романе Пушкин, как мы видели, сохранил основной смысл доставшегося ему документа с незначительными стилистическими изменениями. Он вошел и в пушкинский перевод биографии прадеда, и в «Начало автобиографии».
Один из самых значительных эпизодов всего романа – встреча Петра и Ибрагима: «Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. <…> Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, – сказал Петр, – и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, – продолжал государь, – твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали» (VIII, 10).
Источник у Пушкина – тот же. Сравним с ганнибаловой биографией: «Получив известие об его приближении, государь со своей супругой, императрицей Екатериной, поехал ему навстречу из Петербурга до Красного села, на 27-ю версту…»215.
Пушкин, по-видимому, провел кое-какие дополнительные поиски, их результаты отразились в тексте «Начала автобиографии»: «Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать» (XII, 312).
Обращает на себя внимание деталь с наследственной иконой. Пушкин придавал ей большое значение, раз пытался отыскать216. В «ямскую» сцену романа об арапе Пушкин икону не включил (равно как и императрицу Екатерину). Но если жена Петра вскоре встречает Ибрагима на пороге своего дворца, то в предпоследней, шестой главе – в светелке боярской дочери «тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон»217 (VIII, 29).
Вернемся, однако, в ямскую избу. Биограф Ганнибала Г.А. Леец всю сцену решительно опровергает: «В действительности ничего этого не было. И не могло быть по той причине, что Петр 1 находился с 18 декабря 1722 года по 23 февраля 1723 года в Москве. В Москву и прибыл из Франции 27 января 1723 года князь В.Л. Долгорукий вместе с Абрамом»218.
Другой историк менее категоричен: «Подробности о встрече, сохраненные не только преданием, но и образом Петра и Павла, которым царь будто бы благословил крестника, – все это требует осторожной критики. Вполне вероятно, что встреча возле Москвы позже слилась в памяти с другой, петербургской встречей; особая честь, оказанная офицеру, объясняется скорее всего тем, что Абрам Петрович ехал вместе с послом Долгоруким, а царь встречал все посольство. Весьма довольный Долгоруким (а также другим дипломатом, только что прибывшим из Берлина, – Головкиным), Петр велел им обоим в назначенный день одновременно приехать в Петербург и выехал им навстречу за несколько верст от города в богатой карете, в сопровождении отряда гвардии. Вероятно, часть почестей относилась и к Абраму Петровичу; общая же экспозиция семейного предания, как видим, сходится с историческим описанием: царь выезжает из города, встречает любимцев с особым уважением, награждает и пр.»219.
Ибрагим, подобно блудному сыну из библейской притчи, возвращается к своему (крестному) отцу («явился к монарху с повинною головой», – запишет Бантыш-Каменский со слов Пушкина).
Так, наверное, и сам поэт предстал в глазах света «блудным сыном», который вернулся «в объятия государя» после многих лет странствий и ссылки220.
«Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его об Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое221. Ибрагим отличился умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества…» (VIII, 11).
Начинается новое поприще Ибрагима. В его душе происходит перерождение: «Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия» (VIII, 12).
Так возникает мотив сподвижничества, участия арапа в кипучей преобразовательской деятельности Петра. «Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка…» (VIII, 13). Ибрагим становится в строй деятелей новой петровской России, он один из помощников и доверенных лиц Петра-реформатора. И в этом главнейший смысл образа пушкинского предка в романе222.
И еще об автобиографических моментах. В эпистолярной прозе Пушкина есть замечательные переклички со страницами его первого исторического романа. «Мне 27 лет, дорогой друг, – исповедуется Пушкин В.П. Зубкову о своем чувстве к Софье Пушкиной (1826 год). – Пора жить, то есть познать счастье <…> Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой – неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно – вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. – Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером – судьбу существа, такого нежного, такого прекрасного?..» (XIII, 311, 562). Сравним это письмо со словами Ибрагима, обращенными в письме к Леоноре: «Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?» (VIII, 9) А вот новые сомнения Ибрагима, связанные уже с его петербургским сватовством: «Если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность…» И далее: «Жениться! – думал африканец, – зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что я родился под… (цифра пропущена. – А.Б.) градусом?»223 (VIII, 27). Пушкин как будто сквозь столетие увидел, прочитал документ, который тогда еще пылился в архиве, – подлинное письмо прадеда: Ганнибал (уже генерал и обер-комендант Ревеля) восклицает в прошении И.А. Черкасову, кабинет-секретарю императрицы Елизаветы Петровны: «…я бы желал, чтоб все так были, как я: радетелен и верен по крайней мере моей возможности (токмо кроме моей черноты). Ах, батюшка, не прогневайся, что я так молвил – истинно от печали и горести сердца: или меня бросить, как негодного урода, и забвению предать, или начатое милосердие со мною совершить…»224
Из окруженного холерой Болдина в октябре 1830 года Пушкин отправит письмо своей невесте Н.Н. Гончаровой: «Вы на меня видно сердитесь, между тем как я пренесчастнейшее животное уж без того…» (XIV, 119).
Пушкин в реальной жизни мечтает о женитьбе, сомневается, а в романе Корсаков поддразнивает Ибрагима: «С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..» (VIII, 30).
На страницах пушкинского романа арап размышляет о своей предстоящей семейной жизни: «От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверчивостию и снисхождением» (VIII, 27).
Роман оставлен, а сам Пушкин, решив жениться, пишет письмо своей будущей теще: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца…» (XIV, 76, 404; подлинник по-французски).
Сопоставив именно эти тексты, Т.Г. Цявловская делает вывод: «Психологическая основа повести – душевный опыт самого Пушкина»225.
В черновой рукописи романа были и такие строки, относящиеся к арапу: «Целый день он думал о графине Д., следовал сердцем за нею, казалось, был свидетелем каждого ее движения, каждой ее мысли; в часы, когда он обыкновенно с нею видался, он мысленно собирался к ней, входил в ее комнату, садился подле нее разговаривал с нею, и мечтание постепенно становилось так сильно, так ощутительно, что он совершенно забывался» (VIII, 506). Абзац этот Пушкиным перечеркнут. Т.Г. Цявловская подметила: «Этим реальным ощущением того, что было только в мечтах или было, но отошло, отличался сам Пушкин». И привела выдержку из рассказов П.А. и В.Ф. Вяземских, записанных П.И. Бартеневым: «Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собой, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи, целует у нее руку и пр.». Цявловская справедливо заключает: «Пушкин обогащает образ Ибрагима собственными чертами». И опять обратимся к роману (глава III): «Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные – следовательно, не знал скуки. <…> Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине Д., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние… но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец – он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу» (VIII, 13–14). Т.Г. Цявловская: «…читаешь словно не об Ибрагиме, а о Пушкине»226. В романе много раз подчеркивается африканское происхождение Ибрагима, экзотичность его облика. В черновиках таких деталей было еще больше. Там, например, говорилось, что графиня «увлечена была в его объятия прелестью новизны и странности» (VIII, 521). Или: «Африканец вывел под руку несчастного франта» (VIII, 527). «Подобно многим пушкинским персонажам, образ Ибрагима многопланов, – отмечала Л.И. Вольперт в докладе на «Болдинских чтениях». – В нем проглядывают одновременно и черты исторической личности, прадеда поэта, биографией которого он так живо интересовался, и черты светского человека пушкинской поры, подобного Адольфу, герою Констана, в момент его страстного увлечения Элеонорой, и, как нам представляется, черты Отелло. Человек редкого артистизма, склонный к «игре» и перевоплощениям, Пушкин, возможно, временами ощущал себя и Ганнибалом, и Адольфом, и Отелло, а иногда и «разыгрывал» эти роли в жизни227. В мозаичном образе Ибрагима все эти ипостаси поэта слились воедино, соответствуют разным граням личности героя, просвечивают одна через другую»228.
Итак, Шекспир. Один из самых почитаемых пушкинских учителей в литературе. «По примеру Шекспира я ограничился изображением эпохи и исторических лиц…» (XIV, 46); «Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров…» (XI, 140) – эти и другие высказывания Пушкина можно отнести не только к «Борису Годунову», но и к начатому вслед за ним роману о царском арапе.
Известна оригинальная пушкинская трактовка образа венецианского мавра: «Отелло от природы не ревнив – напротив: он доверчив» (XII, 157).
Как подчеркнула Л.И. Вольперт, «эта идущая вразрез с общепринятым мнением оценка свидетельствовала о глубоком прочтении Пушкиным Шекспира, признании им высокого нравственного облика мавра и определила некоторые грани личности героя романа – Ибрагима. Образ Отелло значим для всех планов «Арапа Петра Великого» – автобиографического, исторического, беллетристического»229. И далее:
«В тексте романа нет прямых реминисценций из “Отелло”, дело обстоит сложнее. Пушкин заимствует рисунок роли, атмосферу, окружающую героя. Он как бы переносит частицу “внутреннего света”
шекспировского героя на Ибрагима. Его герой также натура глубокая, деятельная, цельная, с большим чувством ответственности. Он умеет быть благодарным, в нем много обаяния и человечности. Он, так же как и Отелло, неотразимо привлекает окружающих. Не только русский царь и любящая его графиня сердечно привязаны к нему, но и правитель Франции, регент Орлеанский, и дочери царя, и даже в доме боярина Ржевского “он всех успел заворожить”»230 (VIII, 32).
Это очень интересное наблюдение, но все-таки немного упрощенное. Пушкин учитывал неоднозначное отношение окружающих к арапу, и мы еще на этом моменте остановимся. В принципе, наверное, многие герои романа о царском арапе могли бы присоединиться к признанию шекспировского дожа Венеции, обратившегося к Брабанцио:
Ваш темный зятьВ себе сосредоточил столько света,Что чище белых, должен вам сказать231.И если боярин Ржевский с уважением рассказывает историю Ибрагима («Он роду не простого»… «Он сын арапского салтана»), то и сам царский арап мог бы повторить полные достоинства и гордости за предков слова Отелло:
Я – царской крови и могу пред нимСтоять как равный, не снимая шапки.Семьей горжусь я так же как судьбой232.Что же до ревности, то она, конечно, «бурлит в африканской крови» Ибрагима, но все же и он, как Отелло, вспомним – «не ревнив – напротив: доверчив». И когда приходит горькая весть об измене возлюбленной, «какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаяние? нет, но глубокое, стесненное уныние» (VIII, 15). Ибрагим тоже доверчив. Как Отелло. Как доверчив был Пушкин.
Образ арапа занимает совершенно особое место в пушкинском романе не только благодаря родственным связям его прототипа с автором. Арап – это человек «со стороны», идеальная «точка наблюдения» за событиями, развертывающимися в столицах Франции и России в первой четверти XVIII века. Он выбран в герои по принципу «нет пророка в своем отечестве», он свободен от связей, он способен совершать поступки233.
Арап – изгой, фигура трагическая и уже поэтому полнокровная, живая. И хотя он один из многих иностранцев на службе у Петра, все же судьба у него особенная – дважды похищен, крещен, лицом черен. Все это Пушкин понял чутьем художника, хотя и не мог знать отчаянных строк из написанного по пути в Сибирь собственноручного письма А.П. Ганнибала всесильному А.Д. Меншикову: «Не погуби меня до конца имене своего ради и кого давить такому превысокому лицу такого гада и самая последняя креатура на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жаден; помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам…»234.
Пушкин в «Пиковой даме» привел любимые им дантовские строки о горечи чужого хлеба и тяжести ступеней чужого крыльца. Внимательные читатели не без основания предположили, что эти слова в равной степени относятся и к Лизе, сироте-воспитаннице в чужом доме, и к Германну, немцу-чужестранцу в русской столице235.
Добавим, что эти же слова можно применить и к Ибрагиму, чей хлеб труден и горек на чужбине.
Чернота – проклятие. Это представление восходит к библейской легенде о Хаме, который был проклят, сделан черным, обречен на рабство, как и сын его Ханаан и его потомки «по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их»236.
Известный современный африканский историк Шейх А.Диоп (Сенегал), доказывая величие культуры народов негроидной расы в доколониальный период, генетически связывает ее, опираясь на эту библейскую легенду, с древней египетской цивилизацией237. «Чернота ассоциируется с дьяволом», – подмечает Диоп.
В Словаре Вл. Даля слово «черный» имеет, среди прочих, значения: «нечистый, дьявол, чорт» (и далее «черные книги» – содержащие черную науку, чернокнижие, волхованье, при помощи нечистого, черного духа и пр.)238. Суеверные люди и в наши дни вместо «черт» говорят «черный».
Пушкин замечательно чувствовал это сближение. Не случайно у него как бы перекликается «арапов черный рой» из «Руслана и Людмилы» и «демонов черный рой» в отрывке «И дале мы пошли». Или другой пример – из «Пира во время чумы». Авторская ремарка: «Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею». Под стук ее колес теряет сознание Луиза и, приходя в чувство, вспоминает: «Ужасный демон // Приснился мне: – весь черный, белоглазый… // Он звал меня в свою тележку» (VII, 178)239.
Тень черного человека возникает и в другой «маленькой трагедии». Моцарт признается Сальери:
Мне день и ночь покоя не даетМой черный человек. За мною всюду,Как тень, он гонится… (VII, 131)Эта бесовская тень падает на автора и в стихах «К Юрьеву»: «…повеса вечно праздный // Потомок негров безобразный» (II, 139), и в «Гавриилиаде»: «Друг демона, повеса и предатель».
И еще раньше, в полудетском французском автопортрете: «Сущий бес в проказах…» (I, 91). А потом в уже упомянутом дружеском каламбурном прозвище: «бес арабский (= бессарабский)». Дьяволиада продолжается и шуточный «штамп» отражается далее на восприятии друзьями пушкинской внешности: «Пушкин очень переменился и наружностью: страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение; впрочем, он все тот же, – так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению», – сообщает П.Л. Яковлев, брат лицейского товарища Пушкина, в письме знакомому 21 марта 1827 года240.
В паре «арап и царь» первый – «черный дьявол», но ведь и второй – «царь-антихрист»241.
Черный человек сродни антихристу, символ зла, он заклеймен, отмечен печатью, он всем окружающим чужд и враждебен. Такую ситуацию приходилось переживать Ганнибалу, и это подмечено Пушкиным. В «Начале автобиографии» он записывает слова своей прабабушки по поводу мужа: «Шорн, шорт, говорила она, делат мне шорни репят и дает им шертовск имя» (XII, 313). Параллель эта присутствует и в романе о царском арапе. Татьяна Афанасьевна Ржевская просит брата: «Не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу» (VIII, 25).
Чернота арапа не только выделяет его из толпы, делает унизительным объектом назойливого любопытства. Она равнозначна уродству и потому отвращает от него нареченную невесту.
В «Барышне-крестьянке» Пушкин возьмет эпиграф из «Душеньки» Богдановича. Там героиня настолько прекрасна, что Венера из зависти делает ее смуглой, что (по эстетическим нормам эпохи рококо) равнозначно потере красоты. Чернота – это проклятие!
Но одновременно чернота манит, привлекает внимание, выделяет из толпы. В той же пушкинской повести смуглянка-крестьянка стократ милее, чем белоснежная барышня (Пушкин как бы предвосхищает знаменитый лозунг негритянского движения середины XX века: «Black is beatiful» – «Черный – это прекрасно!»).
С другой стороны, стойкая и давняя традиция связывает роковое, смертельное именно с черным цветом. М.Н. Виролайнен и Н.В. Беляк доказали, что негритянский мотив из сальериевой оперы «Тарар» Пушкин «мог с особым удовольствием ввести в качестве скрытой цитаты в текст “Моцарта и Сальери”». «Можно только удивляться, – подмечает В.С. Листов, – с каким постоянством Пушкин предъявляет черную персону тем из героев, коим грозит смерть. Трагическая противоположность черного и белого, неслиянность и одновременно нераздельность этих начал – едва ли не одна из основ характера поэта. “Потомок негров безобразный” постоянно чувствует какую-то неуловимую грань, отторгающую его от всех. Это поняла и со всей страстью, ей присущей, объяснила М.И. Цветаева. Отсюда же, от происхождения африканского, постоянное внимание Пушкина к гибели белой Дездемоны от рук черного Отелло; идущее через годы самоотождествление с царским арапом Ибрагимом; интерес к эфиопским эпизодам Священной истории».



