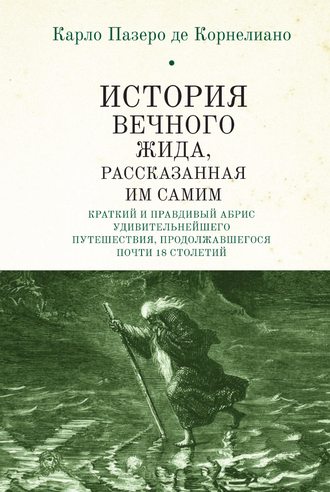
Полная версия
История Вечного Жида, содержащая краткий и правдивый абрис его удивительнейшего путешествия, продолжавшегося почти 18 столетий
Во времена Гадриана в Риме процветала великая роскошь, город кишел обабившимися молодыми людьми, которые были заняты ничем иным, лишь своими наслаждениями. Среди них можно выделить Вера, которого адаптировал Гадриан. Под его подушкой всегда лежал Овидий; службу в его жилище несли мальчики, одетые как маленькие амуры, а их сподвижники, Борей и Аквилон по имени, имели за плечами крылья.
Антонин и Марк Аврелий были очень высокородными князьями, однако они имели несчастье попасть в зависимость от жестокой судьбы, которая в жизни мужчин, склоняющихся под игом брака, проявляет себя подлым образом. Они знали, говорят, как делать дружественную мину при плохой игре; они знамениты в «Анналах» как одни из приятнейших мужей, как и обе королевны Фаустины в ежегодниках огрубевших галантных журналов. Впрочем император Марк Антоний был бравым мужчиной. Он находился в очень угнетающем его безденежьи и предпочел гардероб своей супруги продать с аукциона, чем обложить своих подданных новым бременем (налогов). Римский народ его исключительно любил и выражал Галлии большую благодарность за то, что его жизнь благодаря этому (поступку) была продлена и что он изобрел для него лекарство Фериак.
После смерти Марка Антония судьба была озабочена поисками для римского народа ряда достойнейших князей, и посчитала наилучшим вручить ему кайзера Коммода. Он любил странствующих зверей, в качестве гладиатора он участвовал в боях семьсот тридцать пять раз; он имел сераль, состоящий из трехсот женщин, который он периодически обновлял5. Понятно, что я в силу своего призвания должен непрестанно путешествовать, и так как я более трех дней нигде оставаться не мог, то должен был познать Римскую империю как свой собственный карман. Я не мешкал извлечь пользу из моего странничества, и когда я проходил по местам, где останавливались прекраснейшие люди для осмотра (этих мест), я всегда старался угодить им. Так я видел Плутарха в Херонее, где он трудился над тем, чтобы издать жизнеописание знаменитых мужей. На мой вопрос, как он решился завершить свои дни в таком маленьком городе, он ответил: Как раз потому, что он так мал и что число народа здесь не может быть уменьшено даже на одну единственную персону. Он хотел также, чтобы я оставался в Херонее, дабы дать ему возможность совершить поездку в Рим, и дабы количество народа в его родном городе не уменьшилось бы по этой причине. Для меня принять подобное предложение было невозможным, чего он никак не хотел понять. Оскорбленный моим отказом, он отказался от своего обещания, которое он мне уже успел дать: включить меня в Жизнеописание о великих мужах.
Покинув Херонею, я направился в Никополис в Эпире, чтобы увидеться с философом Эпиктетом. Я встретил его прихрамывающим на большой дороге, недалеко от его соломенной хижины. Он впустил меня и показал мне глиняную лампу, которую только что купил, проданную ему в результате торга за три тысячи драхм. Тут пришли неряшливо (одетые) женщины, старые и молодые, которые хотели упросить его образовать их в философском плане. Эпиктет сказал всем только два слова: Терпение и воздержание! Как, – спросили юные девы, – какая удивительная философия! Терпение – это да, но воздержание? О, да! – произнесли старые, – воздержание должно быть, но терпение? Эти отзывы доставили мне большое удовольствие. Я не мог ограничиться молчанием, и не высказать слово (от имени) евреев, что женщины так же мало должны внимать философии, как и философы женщинам.
Несколько лет после (описанных событий) я вновь находился в Греции, отправившись на Олимпийские игры, чтобы увидеть удивительную пьесу, которую предлагал киник Перегрин. Случайно я оказался рядом с Лукианом, с остроумнейшим и язвительнейшим писателем, которым восхищаются и доселе. Он видел лишь комические стороны вещей и мало руководствовался чувством сострадания, которое должна была бы вселить в него смерть философа; воспринимал лишь смехотворные причины и побочные обстоятельства (развития фабулы). Он породил такое множество острот насчет Перегрина и его последователей – киников, что все они объединились, единодушно подняли свои трости, дабы напасть на безрассудного писателя. По счастливой случайности мне удалось избавить его от их гнева6.
Септимия Севера и Каракаллу я не видел, но знавал Гелиобала. Я видел (императора) в его вышитом золотом шелковом одеянии, с его азиатской тианой на голове, украшенном браслетами и ожерельями, с насурмленными черными бровями и подкрашенными красными щеками.
Я видел его мать Соемис, которая шла по горе Квиринал, чтобы председательствовать в женском сенате, созданном совсем недавно для установления здравого этикета и моды для римских дам. Заседания этого собрания были ни в коем случае публичны, но (даже) в трехстах шагах от помещения, где они проводились, можно было услышать гогот, болтовню и ликование дьявола.
Случай дал мне возможность прочесть на одной из колонн Капитолия уведомление, в котором публике сообщалось, что Гелиобал пригласил всех остроумных людей предложить новые блюда, дабы увеличить сокровища Комоса. Я знал, что бесконечные рагу, которые были обычным (явлением) для кухни Цецилии, вышли из моды. Я решил продемонстрировать одно из них во дворце. Кайзер отведал его и признал абсолютно отвратительным в высшей степени и наложил на меня штраф, не есть ничего иного до тех пор, пока я не изобрету лучшее (блюдо). На другой день я явился с другим рагу. Гелиобал остался им доволен; он был настолько милостив, что выплатил мне за это десять тысяч сeстерций и сказал, что я должен прийти к нему и пожить (у него) тот период времени, на который он пригласил знатнейших сенаторов. Архитриклинус или придворный хаусмайстер знал его людей. Тех из его гостей, кто явился с пустым желудком, усадили по одну сторону, а всех гурманов по другую. Гелиобал принудил первых упиться (хмельными напитками), а другим приказал подавать многочисленные кушанья.
Александр Север вел себя совершенно не так, как Гелиобал. Об их непосредственных преемниках можно сказать немногое. Валериана я видел во главе его армии, направлявшейся против персов, не предвкушавшего трагическую судьбу, которая его ожидала. Его сын Галлий был превосходным товаром, ценнейшим наперсником одного князя. Он был настолько хорош, что побеседовал с философом Плотином и был так доволен его политическим учением, что подарил ему город в Кампанье, дабы осуществить мечту о платоновском государстве. Однако это прекрасное начинание, не знаю почему, было не завершено.
Я имел счастье знать знаменитую Зенобию, которая была так же прекрасна и не менее умна как Клеопатра. У нее были черные глаза, прекраснейшие в мире, осанка благородна, а вид – полным достоинства. Город Пальмира, благодаря ее усилиям, поражал красотою великолепных зданий. Ее время состояло из охоты и занятий. Искусный ритор Лонгин объяснял ей красоты божественного Гомера и божественного Платона. Говорят, что королева со своей стороны объясняла многие вещи Лонгину, но мне в Пальмире об этом ничего сказано не было. По прошествии нескольких лет я наблюдал со скорбью за этой прекрасной и величайшей королевой, плетущейся пешком с золотой цепью на шее перед повозкой Аврелиана, когда тот с триумфом въезжал в Рим. Он гнал впереди себя тысячу шестьсот пленников, определенно предназначенных быть гладиаторами, десять воительниц женского пола, взятых в плен с оружием в руках, которые должны были быть подарены в качестве рабынь древней весталке; двадцать слонов, четырех тигров и более двухсот редких диких зверей, не говоря уже об иных разумных созданиях. Повозку короля тянули четыре оленя как символ его быстрых побед. На другой день он подарил королеве Зенобии дворец в Тиволи; она вновь обрела своего Гомера и своего Платона, жила как римская матрона и почила в мире.
При правлении Пробуса я вернулся в Рим и видел в амфитеатре Тита знаменитую охоту, которая состоялась на арене после того, как туда принесли огромные деревья с корнями, изображающими лес. Затем туда (на арену) выпустили тысячу страусов, тысячу ланей, тысячу оленей и тысячу диких кабанов. Каждому (зрителю) было разрешено убивать этих животных и уносить (с арены) прочь. На следующий день последовала новая охота: на арену выпустили сто львов и сто львиц, двести леопардов и триста туров. Что представляет по сравнению с этим состязание современных князьков? О многих других превосходных событиях этого времени можно было бы узнать, ежели бы я не забыл их, и если бы случай не был бы повинен в том, что многие писания того времени утеряны7.
Амфитеатр Тита, где я видел обе эти охоты, был эллиптической формы, облицованный мрамором и уставленный статуями; как снаружи, так и внутри он покоился на композиции из четырех колонн. Внутрь входили через шестьдесят четыре входа, восемьдесят тысяч зрителей восседали на восьмидесяти концентрических рядах из мрамора, обложенные (мягкими) подушками. Здание было открыто (сверху) при хорошей погоде и покрывалось крышей в форме шатра из льна или кожи (при плохой), дабы защитить зрителя от солнца или дождя. К тому же игра (водяных) фонтанов обеспечивала окружающим свежий и чистый воздух.
Многое можно было бы рассказать о Диоклетиане, который в Никомедии содержал блестящий двор. Его деспотическое поведение бросалось мне тогда в глаза и было заметным впоследствии, когда я видел его трагические достижения, характеризующиеся тем, что те же римляне становились все более худшими и неспособными противостоять варварам. Я принял поэтому его отказ с большой радостью. И я видел его (от всех) уединенным, садящим латук у Салоны. Он жил там в просторнейшем дворце из рубленых камней, защищенном шестнадцатью башнями. Был виден портик длиной в 517 футов. Будучи здесь, император мог прогуливаться в свое удовольствие. Латук, выращивание которого имело в его глазах, как представляется, большую ценность, чем все хлопоты его правительства, в наличии больше не имеется, однако развалины его дворца еще налицо.
Родившийся сам на Востоке, я хотел бы, чтобы мне представилась возможность оправдать решение Константина перенести резиденцию его наследников на берег Босфора. Однако я видел вытекающие, в связи с этим, неудобства. Но я не отмечаю это и посему ограничиваюсь рассказом о блеске Константинополя и о чудесах, кои наблюдались непосредственно в его покоях. Посреди Форума находился пьедестал из белого мрамора, имевший порфировую колонну, высотой в 100 футов и 33 фута в окружности. Вверху возвышалась колоссальная бронзовая фигура, которую считали, принимая на веру, что она изображает Константина, в то время как она была создана Фидием, чтобы запечатлеть образ Аполлона. Город имел великолепный ипподром, где можно было увидеть золотой треножник, который греки в эфесском храме учредили в память о поражении Ксеркса. Несмотря на это, и в силу множества других причин, Константин был еще далек от того, чтобы без промедления вернуться в Рим, памятники которого были неисчислимы. Констанций, сын Константина, увеличил их количество таким образом, что гранитный обелиск, высотою 115 футов, который стоял в Египте перед храмом Солнца в Гелиополисе, он перенес туда; его еще и сегодня можно увидеть в Риме8.
Париж, этот великий город, был тогда маленькой, грязной Лютецией, выстроенный на одном из островов Сены. Я, проживая здесь за пределами города, в термах, видел тогдашнего цезаря, а позднее императора Юлиана, который имел длинные ногти и могучую бороду. Он был педантом, как тот, кто вопил о мудрости парижан, которые тогда делали кислые физиономии и не хотели иметь у себя ни цирка, ни театра. Наблюдая пасмурный облик этих людей, я не мог бы поверить, что однажды Лютеция станет такой могущественной столицей королевства, что там можно будет найти большое количество прекрасных дам, а со мною произойдет мелодраматическая (история). Однако я так же мало верил в то, что термы королевского дворца, где Юлиан иногда с помощью галлийских девушек лощил свой (плешивый) лоб, станут пятнадцать столетий спустя местом пребывания одного бондаря.
Благодаря ревностному изучению божественного Гомера, Юлиан в своих речах и писаниях органически воспринял напористость Менелая, полноту (чувств) Нестора, патетическое и победное красноречие Улисса, посему он считал свое перо достаточно сильным, чтобы с его помощью отомстить всем врагам. И он направлял «Ненавистника бороды» против жителей Антиохии, кои осмеивали его персону и не имели, по сравнению с ним, философских наклонностей. Постоянно занятые тем, чтобы услаждать (себя), они думали лишь о том, как бы добыть возниц из Лаодикеи, артистов из Тира, исполнителей пантомим из Цезарии, певцов из Гелиополиса, фехтовальщиков из Газы, боксеров из Аскалона и веревочных танцоров из Кастабалы. Юлиан появился в таком городе лишь затем, чтобы увидеть храм Аполлона, который находился в Дафне, совсем близко от Антиохии, в зарослях лавровых деревьев, которые имели десять римских миль в окружности, где появлялись живущие по-соседству юные девушки: в одиночестве – когда они приходили, и в сопровождении, когда уходили9.
Наследники Константина занимались некоторыми делами, которые их не касались и также мало занимали меня. Тем не менее я должен сказать, что многие из них принимали важные законы. Из их числа я должен отметить Валентиниана, несмотря на жестокость и бесчувственность его характера. Когда мне представился случай передать ему прошение, я был нимало удивлен, обнаружив в его приемной комнате двух камердинеров очень особого вида, а именно двух чудовищных тигров, запертых в железных клетках. Две испанские собачки выглядели бы здесь прекраснее, а две обезьяны были бы совершенно на своем месте.
Валентиниан для каждого из четырнадцати кварталов Рима назначил врача, получающего государственное жалованье. Это в высшей степени превосходно; и несмотря на то, что Вечный Жид никогда не болеет, я должен сказать при случае, что необходимо тщательно различать врачей – консультантов от врачей клинических, ибо те должны быть оплачиваемы государственным учреждением, без учета тех (врачебных) обязанностей, которые оплачиваемы частными людьми. Каждый врач-консультант должен иметь аптеку и бюро, и каждому, вне различий, необходимо дать возможность (к нему) свободного доступа, чтобы он любому человеку по очереди устно ответил и письменно выразил. Я думаю, что эти предложения обладают ценностью для всех.
Так как я проживал при правлении Феодосия, то предпринял длительное путешествие, чтобы увидеть Фермопилы и Храмовую долину. Отсюда я попал в Фессалонию и был свидетелем жестокой пьесы. Незадолго до этого народ умертвил главу города, так как он не решался отпустить на волю циркового возницу, ибо у него была причина – хорошая или плохая – держать его в заключении. Кайзер, потрясенный этим событием, отдал войскам приказ: в определенный день всех тех, кто находится в цирке, предать смерти. Я видел случайно, как семь тысяч персон были лишены жизни. Феодосий, который в результате этой дикости полностью вышел из себя, дал позднее очень торжественные и в высшей степени праздничные доказательства своего раскаяния.
Гонорий, сын Феодосия, возымел славу и мужество запретить гладиаторские бои. В Риме поднялся против принятого закона великий переполох: утверждали, что эти жестокие состязания следует терпеть, дабы сохранить воинственный дух народа. Ссылаются на неизвестное мне место из Тускуланских бесед Цицерона, распространяются те же нелепости, суть которых стала известной мне позже во Франции во время появления эдикта Людовика ХIV против дуэлей.
Кайзер Гонорий отдал управление Западом своему тестю, графу Стилихо, который предал огню книги Сивилл и своими деяниями вызвал восхищение поэта Клавдиана. Он вовсе не был совершенно неблагодарным, как в этом могут быть убеждены личности, потрудившиеся перечитать его сочинение.
В эпоху распада (империи) ничего не было веселее наблюдать, с какой торжественностью новые консулы выражали свое достоинство Первого января. Они появлялись на Форуме в шелковом одеянии, прошитом золотом, впереди (шли) ликторы со снопами и топорами. Они усаживались на свои курульные кресла по древнему обычаю, основывающемуся на понятии свободы в «Vindex», который отражал позиции последователей Тарквиния. Когда это было позади, они предлагали народу игры, которые стоили от двух до трех миллионов, и далее делали лишь одно: они предлагали отметить их имена при датировке общественных споров. Консульство превратилось в достояние хронологии. Да простят мне небо и земля эту неудачную насмешку.
Город Рим имел тогда миллион двеcти тысяч жителей или много больше. При этом насчитывалось тысяча семьсот восемьдесят дворцов и четыре тысячи шестьсот шестьдесят два дома. Театр содержал три тысячи танцовщиц и такое же число певиц. Большинство сенаторов имело один или два миллионов доходов. Они носили роскошные туники с вышитыми на них разного рода зверями. Они перемещались по улицам города в сопровождении свиты из пятидесяти слуг и на повозках из массивного серебра, которые были высоки, частью закрыты и частью открыты.
Когда Гонорий правил Западом, Аркадий, его брат, был императором Константинополя. Он был настолько добродушен, что позволил евнуху Евтропию украсть свои деньги, и хорош по отношению к императрице, которая предпочла графа Иоганна бедному обрезанному, выслав его на остров Крит, несмотря на то, что тот некогда был обжит Венерой и для людей его рода не был подходящим местом.
Феод II, сын Аркадия, воспитывался своей сестрой Пульхерией, добродетельной дамой, которая превратила императорский двор в средоточие добродетели. Она оженила брата на дочери философа Леонтия, которая до помолвки звалась Атенаис, а позже Евдокией. Новая королева постигла все, кроме искусства вести со своим супругом успешное хозяйство. Феодосий поэтому поспособствовал смерти придворного Паулинуса, к которому он – по причине или без – испытывал ревность. Затем он выслал Евдокию в Иудею, где она обитала в доме, и это чистая правда, который принадлежал мне и которым владела казна на протяжении четырех столетий, уверенная в моей смерти и в отсутствии наследников.
На этом отрезке времени правили в римской империи очень обременительные для нее варварские кайзеры, среди которых Атилла, король гуннов, был ужаснейшим. Я видел его, со взглядом возбужденным и ужасным, с широкой головой, с черно-бурым цветом лица, вдавленным носом с оспинами, с широкими плечами и с коротким четырехугольным телом. Если он в данную минуту не находился в походе, то жил в деревянном дворце, который лежал у подножия Токайских гор – превосходное времяпрепровождение для такого пьяницы, как он. Здесь же для нужд кайзера находился сераль, женщины коего не сидели все-таки взаперти. Кто бы мог подумать, что прекрасная и юная Гонория, сестра Валентина III, тайно послала такому человеку золотое кольцо с просьбой взять ее в жены. Эта принцесса при всем том имела в королевском дворце Равенны нежные отношения с камергером Евгением, а королева Плачидия услала ее в Константинополь к Пульхерии, где она умирала от скуки. Когда стало известно, что она предприняла шаги в сторону Атиллы, то была заключена в замок. Между тем королю гуннов понравилось предложение Гонории: он потребовал ее руки и определенное количество провинций в качестве приданого. В то время, когда пытались побыстрее выполнить его требования, он счел для себя приятной возможность, несмотря на преклонный возраст, жениться на юной девушке по имени Ильдико. Через день после свадьбы он был найден в своей постели мертвым.
В предгорьях Микен я увидел последнего из древних (античных) императоров Запада – Ромула Августа. Он жил в доме выстроенном Марием и с давних пор бесноватым и сумасшедшим Лукуллом, имя которого он еще и носил (Дом Лукулла). Его уже не стоило упрекать в том, что он уже не император, ибо он ничего не сделал, чтобы быть им10.
Глава III
Странствие Вечного Жида с момента падения Западной империи в пятом столетии до правления Карла ВеликогоНебольшое королевство, которым владели сализские франки в середине пятого столетия в регионе Турне, не испытало такого расцвета как современная Франция, а двор Хильдериха, отца Хлодовика, был совсем не таким блистательным, как у Людовика ХIV. Он был, возможно, менее галантным, как это следует заключить из (истории) о королеве Барине, которая запросто покинула своего первого супруга, короля Тюрингии, чтобы жить с Хильдерихом. Она была настолько прямолинейна и простодушна, что на публичной площади Турне сообщила мне, что ежели бы она во время своего отъезда из Тюрингии знавала бы более красивейшего мужчину, чем король франков, то не устояла бы перед тем, чтобы оказать ему предпочтение и даже разыскать его по ту сторону моря. Существует огромная пропасть между этим ее характером и королевой Клотильдой, ее невесткой.
Хлодовик выдал свою сестру Альбуфледу за Теодориха, короля остготов, который постановил управлять Италией с неизменной почти всегда справедливостью. Он выдавал каждый год четыреста марок золотом и двадцать пять тысяч черепиц, однако потомки не простили ему пленение и смерть патриция Боэция. Это настолько правда, что князья должны были сначала дважды подумать, прежде чем проявлять жестокость по отношению к честному человеку. Такой человек как Боэций, который Эвклида, Архимеда, Птолемея, Платона, Аристотеля и других мог обвести вокруг пальца, заслуживает бережного отношения, даже и в том случае, если он за что-либо заслуживает наказание. Труд, который он создал в Павии, доказывает, что он знал как в добродетели найти причину для утешения. Однако вне сомнения в тех же источниках он выражал большое неприятие несправедливости, опрометчивости и (выступал) против пренебрежения теми общественными формами, которые упорядочивают рассудок, что лишь он может утвердить право наказания за преступление и непоколебимость добродетели.
Я видел Кассиодора в преклонном возрасте, когда он уже не был министром короля и тихо жил после переезда в Калабрию среди переселенцев, которых он занял переводом греческих произведений и переписыванием латинских рукописей. Это зрелище поразило меня. Кассиодор один из немногих великих мужей, который, по моему мнению, должен служить образцом. И ежели я перестану когда-либо быть Вечным Жидом, дабы стать министром, попавшим в немилость, то я также изберу для бегства такое прелестное место с прилегающей к нему книжной мануфактурой, окружив себя наборщиками, переводчиками, переписчиками, секретарями, факторами, печатниками: мне – для удовольствия и пользы для публики, которая была бы мне признательна, но может быть и неблагодарна.
Со мной случалось множество раз, что в правление Юстиниана я отправлялся в Константинополь. Я постоянно видел этого кайзера присутствующим в Цирке на состязаниях белых, красных, зеленых, голубых возниц и (встречал) их покровителей и противников. Все эти люди нарушали действие театральных пьес в Константинополе еще более, чем аплодисменты и свист сегодня во время представления парижского театра. Прекрасную королеву Теодору нельзя было не увидеть и не вспомнить, что она была дочерью надсмотрщика над медведями в Цирке, и что в театре она участвовала в пантомиме, и что она творила шалости, наследуя счастливой памяти Аспазии и Лаис. Своим обликом и поведением она была подобна маркизе де Помпадур, которую я, следуя за своей памятью, видел в Версале, Марли и в других местах.
Белизар, чтобы угодить кайзеру Юстиниану, посчитал хорошим тоном жениться без стыда и страха на одной из женщин. Он приказал в учреждении по опеке, куда кайзерша заключила пять сотен легкомысленных дев, которых она предполагала повести по стезе добродетели, разыскать Антонину. Большинство этих созданий предпочли броситься в море, чем печально плестись по неизвестному им пути. Другие преодолели себя. Антонина была в их числе. Впоследствии она стала доверенной подругой Феодоры, и когда кайзер приказал выколоть Белизару глаза, она проявила достаточно доброты, обрядив его в лохмотья и дав ему возможность блуждать в пригороде Константинополя, где он был вынужден выпрашивать кусок хлеба, лишившись навсегда собственного дома. Он хотел лишь во все горло обвиняющим и жалостливым голосом прокричать: Подайте один обол полководцу Белизару! Его принимали за дурака и ничего не подавали. И в этом положении он пребывал до смерти Антонины, которая перед своим концом сказала правду относительно положения своего мужа, о том, что она и прежде доказывала, что тот уединился в сельском доме. Эта «правда» недостоверна; в этом пункте вы у меня в хороших руках: я сам как-то подал один обол попрошайке.
Если Нарсеса видели во главе собственного войска, то никто не смог бы и подумать, что он такой же человек, как и другие. И все же ничто не препятствовало его любви к самому себе, и он в связи с этим представил ужасное доказательство, когда он, для того, чтобы отомстить за прялку, присланную ему из Константинополя, призвал лангобардов. Эти получили свое наименование от длины их дротиков. Когда итальянцы обнаружили их появление, они позволили себе на их счет дурную игру слов: они назвали их «длинные бороды». Однако варвары были не столько бородатыми, сколько очень упрямыми. И чтобы показать, что свое наименование они считают очень достойным и никак не насмешливым, они начали носить длинные бороды и считать их неотъемлемым признаком своего происхождения.

