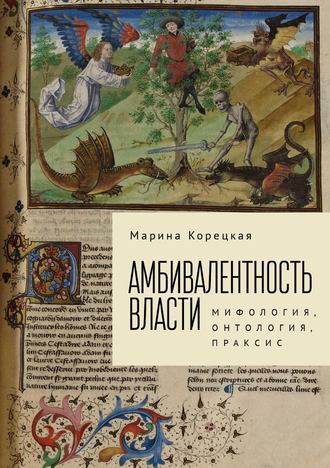
Полная версия
Амбивалентность власти. Мифология, онтология, праксис
Весьма красноречиво, что Амери, утратив идентичность австрийца (все немецкое стало вызывать в нем только мучительные приступы ресентимента) и не найдя в себе сил совпасть полностью с идентичностью еврея (солидарность с пострадавшими не привела к принятию еврейской культуры), принимает вполне только идентичность жертвы, столь невыносимую, что в конечном итоге он заканчивает жизнь самоубийством. Примо Леви (также бывший узник Освенцима, покончивший с собой в 1987 году) пишет о подобном опыте, когда исследует границы человечности в рамках лагерной системы и пытается понять парадоксальную природу стыда выживших жертв. Горизонтом подобных описаний оказывается фигура «мусульманина», или «доходяги», бродячего трупа, пучка агонизирующих физиологических функций, того самого «канувшего», чьих свидетельств мы никогда не услышим и который – трудно не согласиться здесь с Агамбеном – и представляет собой фигуру голой жизни par excellence. Опыт жертвы радикального насилия может быть пережит как травма в перспективе не только индивидуальной, но и коллективной идентичности. Геноцид, чистки, принудительное перемещение населения и прочие биополитические эксцессы, связанные с террором, включая террористические атаки, несомненно, могут восприниматься пережившими их сообществами как удар по коллективному самосознанию, поскольку само сообщество не может никак этому воспрепятствовать и именно поэтому оно репрезентирует себя как травмированную жертву. Фоном требований о восстановлении прав и поруганной справедливости остается все тот же неистребимый стыд уничтожения перед лицом другого, присвоившего себе суверенное право на террор: «Мы те, с кем так, оказывается, можно было поступить на глазах всего цивилизованного мира. Мы те, кто ничего не смог этому противопоставить». Здесь трагизм смыкается с ресентиментом и никакая компенсация не может быть достаточной.
Дискурс травмы снижает градус потенциальной сакральности событий, отмеченных жертвами или, точнее, переводит эту сакральность в иное русло. В качестве примера здесь можно рассмотреть полемику о Холокосте. Этот пример не случаен, поскольку для становления дискурса культурной травмы Холокост является прецедентным случаем и связан с событиями наиболее масштабной биополитической бойни. Консенсусная истина о том, что евреи являются жертвой геноцида со стороны фашистского режима Германии, может быть представлена в терминах как собственно жертвы, так и травмы. Если мы говорим о «жертве еврейского народа», то сама логика дискурса позволяет нам в конечном счете по ту сторону жертвы-victim постулировать присутствие жертвы-sacrifice: мы помещаем событие геноцида в контекст священной истории, приписываем ему мистериальный смысл. К этой трактовке и привязан термин «Холокост», то есть «жертва всесожжения», на котором настаивал Эли Визель182. На первый взгляд кажущееся более нейтральным слово «Шоа», то есть в переводе с иврита «бедствие, катастрофа», по сути дела тоже сохраняет сакральный шлейф, поскольку в Торе так наываются тяжелые испытания, посланные Богом народу Завета. Конечно, за таким словоупотреблением стоит вполне понятная попытка спасти массовые смерти от невыносимой как для индивидуального, так и для коллективного сознания бессмысленности. Идентичность избранного народа, пройдя через испытания, получает возможность обрести свое радикальное подтверждение. Но такой дискурс не бесспорен не только потому, что он дает обоснование радикальному сионизму. Но и по тем причинам, о которых писали такие авторы, как Нанси (имеется в виду его работа «То, что невозможно принести в жертву»)183 и Агам-бен184 (о чем речь шла уже в предыдущем параграфе). Жертвы Освенцима не были мучениками веры, печи крематория нельзя уравнять с алтарями, чудовищность преступления радикальным образом дискредитирует саму идею жертвоприношения. В этом смысле желание спасти человечность погибших нечеловеческой смертью жертв через подверстывание сакральных формул уводит от понимания собственно внутренней логики катастрофического события. Нацистский режим не рассматривал евреев (равно как и другие группы, подлежащие уничтожению) в качестве жертв (ни в смысле victim, ни в смысле sacrifice), даже жертв, необходимых во имя осуществления арийского проекта. Они рассматривались как расходный материал, грязь185, что, заметим, вполне соответствует и логике современного терроризма. Как проницательно отмечает Примо Леви в своем исследовании «серой зоны», где речь идет о зондеркомандах, т. е. о рабах крематориев, которых набирали почти исключительно из евреев, таким способом система перекладывала «на самих жертв всю тяжесть вины, чтобы те не могли утешаться мыслью о своей невиновности»186. Не говоря уже о том, что любая потенциальная сакральность и прежде всего сакральность смерти в концентрационной системе сразу же цинично дискредитировалась187.
Отсюда другой разговор: геноцид следует рассматривать как «травму еврейского народа». Вместо священной истории здесь разворачивается эпос о попрании и восстановлении человечности, о святости жизни и важности биполитического пакета прав – на жизнь, безопасность, свободу и человеческое достоинство, который (пакет) даруется и гарантируется институтами правового государства и гражданского общества. Здесь признается, что смерть жертв геноцида была ужасающе бессмысленной и именно в этом качестве она травмировала выживших, очевидцев, на чьих глазах и отчасти с молчаливого согласия которых происходили все эти вещи, армии союзников, которые пришли, увидели и ужаснулись. Вменение травмы травмировало даже преступников (по крайней мере, некоторых из них)188, и совершенно точно, их потомков. Как показывает Дж. Александер, в процессе конструирования этой прецедентной культурной травмы идентичность действительно оказалась болезненно утрачена у всех. Дальше вроде бы производится масштабная культурная работа по предотвращению повторения подобной катастрофы в будущем, пересобиранию идентичностей заново через покаяния, мемориальные комплексы, компенсации, вменения ответственности. Однако странным образом, чем дальше идет этот процесс, тем в большей степени прогрессистский нарратив сменяется трагическим нарративом189 и вместо того, чтобы привести к катарсису и исцелению общества, такой дискурс хроникализирует культурную травму и распространяет ее на все большие сферы и пространства. И вот в этом-то контексте у Александера и появляется повод вновь заговорить о своего рода сакрализации. Правда, это довольно странная сакрализация, которая не связана ни с каким переживанием священного: Холокост предстает как абсолютное зло с его бесконечно расползающейся скверной190. Архаическое сакральное, как об этом писал Р. Кайуа, амбивалентно (о чем у нас речь шла в первом параграфе этой главы), оно, будучи эпифеноменом концентрации социальной энергии, сочетает в себе как святость, так и скверну. Монотеизм, как мы помним (см. третий параграф этой главы), имеет тенденцию трактовать сакральное в монистическом ключе, но связывает с ним только благое всемогущество Бога. Здесь же у Александера появляется «монистическое», но при этом абсолютно негативное сакральное – самовозрастающая и пятнающая все скверна. Жертва, понятая через призму травмы, сплачивает сообщество, но не через очищение, а через осквернение причастностью к абсолютно немыслимому насилию. Прямо или косвенно виновными становятся не только нацисты Третьего рейха, но и коллаборационисты, немцы в целом и даже участники Сопротивления и воздушные силы Союзников.191 По аналогии в геноциде обвиняют японцев, которые, в свою очередь, обвиняют США. Проводятся аналогии между нацистским государственным террором и репрессивной лагерной системой в СССР, а также современным терроризмом. Фашизм связывается с любыми формами нетерпимости и так далее до бесконечности. Единственный способ не допустить повторения абсолютного зла – помнить о нем непрерывно, опознавая его мельчайшие проявления. В общем, распространение культурной травмы как скверны предполагает, что все являются реальными или потенциальными виновниками, но, добавим, все также и потенциальные жертвы. На такое положение дел достаточно красноречиво намекают не слишком эффективные в плане реального обеспечения безопасности рамки металлодетекторов в метро и прочих общественных местах: мы проходим под ними одновременно и как потенциальные субъекты и как потенциальные объекты насилия. Культурная травма собирает социальное тело, но как скорбящее, полное и чувства вины, и ресентимента. С. Ушакин в этой связи подмечает две интересные особенности актуального бытования культурной травмы. Во-первых, сплошь и рядом имеет место активация чужой травмы, которая преследует не столько цель эмоциональной археологии, сколько задачу эмоциональной идентификации – с погибшим, с его родственниками, со свидетелями. Во-вторых, «формирование терапевтического контекста – т. е. задача преодоления травмы – вытесняется попытками пережить (чужую) утрату вновь и вновь, сделать ее частью повседневной жизни, выстроить вокруг нее сеть объединяющих ритуалов и практик»192.
Этот разговор о тотализации скорби, вины и страха вокруг культурной травмы, как представляется, имеет параллели с беньяминовским разговором о капитализме как о секулярной (имманентной) религии вины193. «Демоническая двусмысленность» понятия Schuld, включающего в себя как долг, так и вину, характеризует тотальность капиталистических связей как связей вины без всякой перспективы на искупление. Носителем вины оказывается у Беньямина прежде всего «голая жизнь», но всеобъемлющая и всевозрастающая вина подчиняет себе даже Бога, что чревато в конечном счете вселенской катастрофой. Капитализм в этой логике представляется системой вменения вины, которая приговаривает к наказанию, чтобы нажиться на долге и одновременно увеличить его… Что и говорить, такие смысловые параллели с трагическим нарративом травмы по большому счету оптимизма не внушают. Иными словами, процесс рассуждения о жертве в терминах травмы неоднозначен: в нем при гуманистической идее и пафосе есть и второе дно – биополитическая эксплуатация. В этом смысле и разговор о «биополитической теологии» может показаться не столь уж бредовым, если понимать под последней светскую теологию всеобщей потенциальной причастности к скверне насилия, которая обеспечивает светский культ святости жизни с соответствующим корпусом ритуалов безопасности. Культурная травма с ее коллективной аффектацией вполне может быть расценена как основной нерв этой системы.
Здесь мы подходим к еще одному парадоксу, связанному с превращением травмы в зрелище. Сама задача собирать коллективное тело при помощи аффектации предполагает, что перформативное, зрелищное начало присутствовало в архаической практике жертвоприношения в откровенно незакамуфлированном изводе. Травма вроде бы никакой зрелищности сама по себе не предполагает – она предполагает, что имели место некие катастрофические события, которые часто происходили под покровом тайны. Геноцид и репрессии организуются так, чтобы у них не было ни зрителей, ни свидетелей. Но травма, как об этом совершенно справедливо говорит Александер, имеет место не там и не тогда, когда что-либо произошло, сколь угодно катастрофическое, а тогда, когда эти события те или иные сообщества начинают квалифицировать в качестве травмы, публично предъявляя фигуры жертв и преступников, приводя свидетельства и аргументы. В этом смысле можно сказать, что зрелищность в конструирование травмы также оказывается включена. Тем более показательно, что актуальные формы террора демонстративно зрелищны. Отсюда парадокс – превращение индивидов с их личностным достоинством и комплектом гражданских прав в феномен голой жизни – это запретное, непристойное зрелище: непристойно смотреть на агонию, на голые трупы Освенцима, на растерзанные тела в метро из уважения к погибшим и травмированным, к их человечности. Заметим, что ни зрелище жертвоприношения, ни зрелище публичной казни не было непристойным, наоборот! Расчленяемое тело жертвы – возвышенно, казнимый преступник – монстр, демонстрируемый для того, чтобы оттенить великолепие суверена. Когда же предъявляют фотовидеоотчеты с места совершения теракта, нам демонстрируют картинку того, как суверенный индивид превращается в кровавые ошметки. Никто не хотел бы быть публично экспонированным в таком виде, тенденция сближения со снаффом такого рода свидетельств по большому счету непристойна. Но мы только и делаем, что их смотрим. И не можем не смотреть – не только потому, что загипнотизированы этой порнографически показанной агонией, фасцинированы чужой смертью, но и потому, что, если нет свидетельства, можно делать вид, что и события не было. Публичное пространство не претерпит возмущения, ответственность не будет вменена. Культовое (в обозначенном выше смысле) осуждение абсолютного зла сплачивает сообщества не только благодаря индивидуализации портрета жертвы, но и за счет максимально приближенной медиасредствами демонстрации оскверненного бессмысленной смертью ее тела.
6. Профанация как метод дезактивации политической теологии
В этом параграфе мы рассмотрим вопрос о способах выхода за рамки культурных механизмов, обеспечивающих сакральную легитимацию власти и в этом контексте зададим вопрос об освободительном потенциале секуляризации и профанации как практик, направленных на достижение эффекта десакрализации.
У профанации как у специфического культурного жеста репутация, безусловно, незавидная, и тем не менее Джорджо Агамбен пишет в ее честь «Похвалу», довольно неожиданным образом настаивая на ее освободительном потенциале. Он предлагает обнаружить в ней вовсе не то, что привычно слышится нам в расхожем словоупотреблении: не игру на понижение, связанную с небрежностью, некомпетентностью или корыстью, а самое настоящее лекарство от вируса политической теологии. Эта попытка инициировать переоценку профанации, безусловно, нетривиальна, но важно учитывать, что производится она с ангажированных позиций. Предложенная Агамбеном рецептура вызывает ряд сомнений и провоцирует желание пристальнее присмотреться к логике, превращающей профанацию в практику «дезактивации диспозитивов власти», а также задать вопрос о степени действенности этой практики. «Похвала профанации» – небольшое провокативное эссе, тезисы и аргументы которого даны лишь в качестве наброска и требуют дополнительной экспликации контекста, но это эссе дает повод как минимум дистанцироваться от оценочных автоматизмов и мыслительных клише. Поэтому представляется важным сосредоточиться не на прямолинейном и потому слишком поверхностном вопросе «профанация – это хорошо или плохо?», а на проблематизации потенциала профанирующего жеста: действительно ли он может и если да, то до какой степени, при каких условиях дезактивировать диспозитив власти, или же профанация лишь поддерживает status quo? Иными словами, задача видится в том, чтобы, отталкиваясь от эссе Агамбена, вернуться к обсуждению вопросов о том, как работает акт профанации в культуре, какие функции он выполняет, могут ли эти функции измениться в современной ситуации и чего мы можем, а чего не можем ожидать от профанирующего жеста.
Прежде всего, в какой перспективе возникает идея пропеть профанации дифирамб? Эта перспектива у Агамбена связана с критикой политической теологии, новым воплощением которой с подачи Вальтера Беньямина объявляется капитализм. Подробно на описании этого контекста мы останавливаться не будем, пунктирно отметив лишь те «опорные» точки, которые важны для понимания агамбеновских намерений. Концептуализация политической теологии связана с известным тезисом К. Шмитта: «Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризованные теологические понятия»194. Право по своим механизмам теологично; краеугольное для западного диспозитива власти понятие суверенности, предполагающее, что «суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»,195 имеет теологические истоки, за ним стоит чудо божественного акта воли, учреждающего порядок. Критика политической теологии и ее множественных проявлений раздается прежде всего с «левого фланга», каковой и представляет опирающийся на Беньямина Агамбен. Политической теологии предъявляются различные претензии, но две из них представляются наиболее существенными. Во-первых, она парализует заветный идеал Просвещения, четче всего сформулированный Кантом, – совершеннолетие разума, способность мыслить собственным умом, – поскольку теология как таковая по определению предполагает сакрализацию авторитета, трепетное отношение к вышестоящим инстанциям. Логику этой претензии и ее связь с анархизмом подробно раскрывает в своей книге О. В. Горяинов196. Вторая претензия является сквозной линией серии книг Агамбена «Homo sacer». Это претензия к практике суверенного решения, поскольку с ним неразрывно связано радикальное насилие: суверен принимает решение о жизни и смерти, в ситуации чрезвычайного положения любая жизнь может быть отнята и при этом убийство не будет считаться преступлением. Исключительная власть суверена производит фигуру исключенного, то есть лишенного правового и человеческого статуса homo sacer, в качестве которого выступает заключенный концлагеря, заложник, беженец. Суть анархистской критики в том, что как бы мы ни силились включить в зону правовой защиты максимально большее число обездоленных, сама логика учреждения права не может обойтись без производства исключенных.
При этом радикальная критика политической теологии, как представляется, сталкивается со следующей проблемой. Допустим, гуманистический и просвещенческий импульс требуют последовательной и радикальной дезактивации диспозитива суверенной власти, для чего должна быть преодолена политическая теология. Но сложность в том, что сам позитивный идеал Просвещения тоже во многом опирается на концептуальную конструкцию суверенности субъекта. Вспомним кантовскую формулировку: «Имей решимость пользоваться собственным умом».197 В ней в качестве смыслового фона вполне отчетливо слышны и «решение», и «собственность», и «право распоряжаться собственной жизнью и смертью». И такой отзвук далеко не случаен. Сохранить автаркийно мыслящего субъекта, имеющего мужество и способность пользоваться собственным рассудком без руководства со стороны кого-то другого и при этом отказаться от принципа суверенного насилия, – крайне непростая задача198. Отсюда навязчивый кошмар тайного сродства практики освобождения и террора и все своеобразие анархистского проекта. Другая стратегия связана с попытками построения такой теологии, которая не имела бы репрессивных импликаций, предполагая освобождение не от теологии, а самой теологии. Эту стратегию мы видим, в частности, у Йоэля Регева199, но останавливаться на ней в рамках данного парагрфа мы не будем.
В любом случае с достаточной очевидностью выясняется, что политическая теология живуча и имеет вирусный характер. Трансцендентная инстанция может быть утрачена или устранена, но теологические структуры суверенности продолжат работать даже после «смерти Бога» в слегка трансформированном ключе, удачно камуфлируясь практически под любой общественно-политический пейзаж. В этой связи для критиков политической теологии чрезвычайно важным оказывается уже упомянутый в предыдущем параграфе небольшой текст Вальтера Беньямина «Капитализм как религия»200, в котором капитализм объявляется не просто порождением религиозной (протестантской) этики201, как это было у Вебера, но самой настоящей имманентной религией долга и вины. Эта религия имеет культовый характер, она культивирует интериоризацию долга (как в моральном, так и в финансовом смысле, на что довольно откровенно указывает немецкое слово «schuld»202), да еще время от времени, по меткому выражению С. Л. Фокина, жертвует «ударниками капиталистического труда»203.
Поскольку политическая теология черпает свою легитимность в области сакрального, против сакрального и совершается анархическая диверсия. Здесь мы и переходим от экспликации контекста к анализу непосредственно эссе «Похвала профанации», где Агамбен настаивает на том, что сакральное должно быть не секуляризовано (секуляризация и породила капитализм и культ права), а именно профанировано. И секуляризация, и профанация «суть политические операции, но первая имеет дело с практикой власти, которая укрепляется, получая новую сакральную основу; вторая дезактивирует диспозитивы власти и возвращает в общее пользование пространства, которые были властью конфискованы»204
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Об этой несамостоятельности проблематики власти до рубежа современости пишет, например, В. Г. Косыхин. См.: В. Г. Косыхин Метафизика власти и проблема нигилизма в европейской философии // Власть. – 2008. № 3. – С. 90–91.
2
Делез, Ж., Гваттари, Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари; пер. с фр.. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – С. 9.
3
Как утверждает П. Слотердайк, цинизм представляет собой просвещенное ложное сознание, то есть такое сознание, которое видит все идеологические манипуляции насквозь и не сопротивляется им только лишь из соображений комфортности и конформизма. См.: Слотердайк П. Критика цинического разума / Пер. с нем. А. Перцева; испр. изд-е. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT, 2009.
4
Вполне может статься, что проблема власти далеко не единственная страдает двусмысленностью и амбивалентностью. Н. А. Терещенко в своей книге «Социальная философия после “смерти социального”» раскрывает целый ряд парадоксов и антиномий, свойственных проблемному полю социальной философии, которая, как настаивает автор, фактически является единственнм претендентом на статус «первой философии» сегодня. Более того, антиномичность социальной философии предлагается понимать не как антиномичность предмета, а как «антиномичность философии как таковой», «антиномичность познания и мышления об обществе». Терещенко Н. А. Социальная философия после смерти социального. – Казань: Казанcкий университет, 2011. – С. 285.
5
«Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men». (Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Великие персоны почти всегда являются плохими людьми».) John Emerich Edward Dalberg. Letter to Archbishop Mandell Creighton. (Apr. 5, 1887). URL: http:// history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html (дата обращения 12.10.2016).
6
Это парадоксальный элемент, который смещен относительно себя и находится всегда не там, где его ищут, но именно поэтому он запускает и связывает разные серии, будучи имманентен каждой из них. Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм // Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. Статьи / Пер. с фр., редакция и предисловие. Соколов Е. Г. СПб. Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ, Алетейя, 1999. – С. 159–168.
7
Как известно, Батлер существенно изменила подход к гендерным вопросам, настаивая на том, что нет никакой метафизически гарантированной истины пола, но есть исторически подвижные и зависящие от конкретных форм праксиса в том или ином обществе гендерные роли, исполнение которых постфактум и производит «онтологический эффект». См.: Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. – Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.
8
Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. М.: Ad Marginem Press, 2018; Butler J. and Athanasiou A. Dispossession: The Performative in the Political. Cambridge: Polity Press, 2013.
9
Персональный исследовательский проект «Амбивалентность власти: мифологический, онтологический и практический аспекты» проводился при поддержке фонда РГНФ (проект РГНФ № 14-03-00218).
10
См. Мосс М. Социальные функции священного: Избр. произведения / Пер. с франц. под общ. ред. И. В. Утехина. – СПб.: Евразия, 2000. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. – М.: Канон+, 1998.
11
Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011.

