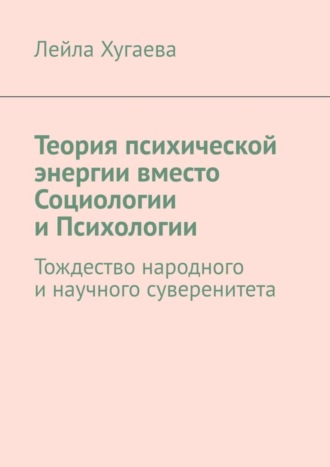
Полная версия
Теория психической энергии вместо Социологии и Психологии. Тождество народного и научного суверенитета
В этом случае талант, тянущий на буксире всю компанию – основной фактор ее успеха, ее главный актив, и все держится только на нем до тех пор, пока он остается в компании. Однако, когда гений уходит, его помощники зачастую не знают, что делать дальше» В отличие от великих компаний, уделявших огромное внимание созданию сильной команды менеджеров, несостоявшиеся великие поразительно часто использовали модель «гений с 1000 помощников». Согласно этой модели, компания – не что иное, как поле для приложения гения одной экстраординарной личности. Гении не собирают выдающихся команд менеджеров – они им не нужны. Очень часто они их просто не хотят. Если вы гениальны, вам не нужна команда такого профессионального уровня, как у Wells Fargo, ребята могут искать себе другого работодателя. Что вам нужно, так это армия исполнительных солдат, которые бы помогали претворять в жизнь ваши выдающиеся идеи.
Джим Коллинз От хорошего к великому1. ЮРИДИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ
Те, кто отрицал социальную физику Конта как способность познать законы общечеловеческой природы, отвергали и его разделение научного и юридического суверенитетов, промежуточный характер юридизма в эволюции человеческого общества и конечное доминирование научного управления.
Поппер очень четко формулирует мысль Канта о противопоставлении юридических законов законам природы, когда говорит:
Здесь Поппер противопоставляет свое мнение всем «психологистам», которые подобно Конту и Миллю утверждали, что общество так же как и природа имеет неизменные и постоянные законы природы и это психические законы, которые мы можем познавать и контролировать так же как другие естественные законы. В этом смысле он хвалит Маркса, который ни в каком виде психологистом не был, и не считал, что обществом движут врожденные психические законы человека.
Поппер предпринял тщательный анализ первобытного общества в «Открытом обществе и его врагах», чтобы доказать, что коллективное сознание и общественные учреждения предшествовали личности, как самостоятельному разумному субъекту. И на этом основании сделал вывод, что институты первичны по отношению к личности, а значит, законы психологии не имеют значительного влияния на общество и могут игнорироваться.
Однако, если с первым его утверждением не поспоришь, то вывод, который он из него делает более чем сомнителен. По крайне мере, теория психической энергии легко опровергает его доводы о том, что хронологическое первенство общественных учреждений по отношению к самостоятельному индивиду говорит об отсутствии психологической природы человека. Психика возникла не как психика отдельных индивидов, а как структура силового поля, носителями которых, безусловно являлись отдельные индивиды.
Например, психологическая система двух противостоящих фигур Эго и СуперЭго, открытая Фрейдом, является примером такой структуры силового поля, заложенной в каждом индивиде. В обществе эти структуры образуют одно единое силовое поле, в данном случае садо-мазохисткие союзы. Первобытные общества были прообразами левиафанов Гоббса, поскольку потребности в насилии и подчинении четко проявлялась в обожествлении природы и добровольном жертвовании идолам себя. Разумное силовое поле психики, источником которого является интеллект, на данном этапе было исключительно слабым, существовало только как потенция, зародыш. Оно разовьется спустя тысячелетия и тут же проявится в отчаянной борьбе против садо-мазохистских союзов, в поисках другого свободного и справедливого общества, что имело место уже в Древней Греции. Таким образом, еще раз доказано, что методология, как социологии, так и психологии не позволяет видеть закономерности явлений, но их легко идентифицирует теория психической энергии.
Так Поппер сформулировал свою теорию положительного права, как юридизма не имеющего источников в законах природы и являющегося самостоятельной наукой. Теорией, логическим развитием которой является отрицание верховенства права и понимание государственного суверенитета как «установления господства власти над населением», то есть суверенитета правительства.
Если нет законов природы в обществе, то не может быть и научного управления обществом. Так юридизм возводится в статус социальной науки и объявляется единственной возможной наукой об управлении обществом. Это мнение Гоббса, Макиавелли, Бодена, Канта, Гегеля, Поппера и Вебера. Даже, известный своим просвещенным либерализмом русский юрист двадцатого века П. Новгородцев разделял его. Но безосновательно, как мы попробуем доказать ниже.
Новгородцев пишет в своих «Лекциях по истории философии права», что «особенность школы естественного права состоит в том, что она, не ограничиваясь описанием фактов истории, всюду ставит вопрос об этическом их оправдании. Они все более переходят с точки зрения исторических аргументов на почву общечеловеческих требований, от истории к этике. В этом отличительная черта всего естественного права и в частности теории Локка». Локк пишет об этике как о «врожденной природе человека», также как Руссо, Цицерон, Милль, Спенсер или любой другой представитель естественного права. Для них источником права является эта врожденная природа человека, которая является моралью людей, а потом возводится ими в юридический закон. Для Гоббса, Макиавелли и других, которые либо вообще не признавали наличие общечеловеческой природы, либо подобно рейду полагали ее «звериной» и злой – мораль вводится юридическим законом.
2. СВОБОДНАЯ ОТ ЭТИКИ СОЦИОЛОГИЯ ВЕБЕРА
Напротив, дать социологическое определение современного государства можно, в конечном счете, только исходя из специфически применяемого им, как и всяким политическим союзом, средства – физического насилия. “ Всякое государство основано на насилии», – говорил в своё время Троцкий в Брест-Литовске. И это действительно так.
Мы видели, что социальная физика, как ее понимал позитивизм, была классическим определением научного контроля о том, что наука есть познание и контроль законов природы. Таким образом, цель всякой науки открыть доступ к энергии природы, в данном случае к энергии общества. Научиться управлять обществом без насилия, посредством одного только знания, одной только образовательной и научной инфраструктуры общества.
Социология неокантианцев, которые резко отмежевались от позитивизма и объявили, что человек не имеет единой природы, никаких подобных целей перед собой не ставила и ставить не могла. Она также страстно выступила против агностицизма, заявив, что знание возможно, но это будет особое знание. Как им открыл Кант, человек не имеет общей природы, не детерминирован законами природы, обладая свободным моральным разумом, самостоятельно устанавливающим себе законы. Поэтому познавать в обществе универсальные законы, общие для всех было бы абсурдно, возможно лишь описать и интуитивно почувствовать специфику различных уникальных культур.
Можно было бы возразить, что «чувствование» прекрасно, но не относится к сфере наук и познанию. Что правильнее ставить вопрос об эстетическом постижении различных уникальных культур, что было бы и правильно и прекрасно. Можно было бы сказать больше: а почему собственно они говорят об уникальности целых культур, а не индивидов, как говорил их учитель Кант? Следуя его логике до конца им бы надо было ставить задачу интуитивного прочувствования всех семи миллиардов человек, обитающих на земном шаре, их этических и эстетических предпочтений, гастрономических вкусов и интеллектуальных склонностей? Ведь если следовать логике Канта ничего не связывает людей во времени и пространстве, кроме разве что власти. Но тогда правильно изучать механизмы власти, а не интуитивное прочувствование культурной специфики.
Так или иначе, неокантианцы утвердили себя в качестве особой социальной науки, изучающей специфически человеческую реальность.
Результатом этих особых исследований стало описание своего чувственного восприятия различных культур различными авторами. Чисто эмпирическое накопление материала, которое могла быть полезно только как предварительная стадия для дальнейшей научной обработки этого материала, но только не как конечная «научная картина мира». Сомнительным итогом исследовательской работы энтузиастов-кантианцев стала доктрина «духа культур», появившаяся в результате простого эмпирического описания институтов данного общества. Это описание и бралось в качестве эталона общества, выразителя уникальности его духа, источника добра и зла – ведь для каждого общества существовала своя автохтонная ему этика. Так, и негативные и позитивные результаты исследований оказались только во вред действительной науке. Негативные результаты, которые состояли в отрицание истинной науки, самоочевидны. Позитивные результаты, «находки» социологов-неокантианцев стали источником обоснования релятивистской этики, а также ввели ложный объект исследования в виде гипостазированного как «дух культуры» общества. Это привело к утверждению ложных ценностей и ложной трактовке эволюции общественных институтов, а также извращению объективной этики.
Вебер немного иначе формулирует свою задачу: если человек свободен, то мы должны изучать не законы, которые им движут, а мотивы и цели которые он ставит, средства которыми он достигает своих целей позволят нам оценить уровень рационалистичности общества. Он пишет знаменитый «дух капитализма», где представляет капитализм протестантской романтикой перенесения монашеского служения богу из аскезы монастырей в служение трудом в реальном мире. Это «иррациональная» мотивация с точки зрения личной выгоды на этом свете, выявляет религиозную мотивацию собирания благ в мире ином. Однако, она оказывается исключительно выгодной и с экономической точки зрения, так как воспитывает людей в духе благочестивого и бережливого труда, отказа от роскоши и инвестирования средств в накопление капитала.
Это вполне правдоподобное объяснение психологических мотивов некоторых людей (не всех конечно), и как художественные заметки современного быта остроумного человека были бы очень уместны и любопытны. Это могло быть прекрасной апологией капитализма или даже могло быть эффектно использовано в его пропаганде. Но какое отношение все это имеет к науке об обществе? Как такой ограниченный отрезок в пространстве и времени человеческой истории может что-либо рассказать нам об обществе в целом или хотя бы о протестантстве и капитализме?
Взять для примера нашумевший очерк об итальянской мафии Роберта Савиано: «Каморра». Следуя научной методологии Вебера его можно было бы представить как «дух мафии» и рассказать там о том, что участниками организации двигает романтическая вера в величие «больших боссов», которой они набрались в голливудских фильмах. Что мечтой юношей становится иррациональное стремление стать большим боссом и быть убитым в расцвете лет в процессе отчаянной борьбы за звание крутого мафиозо. Так мы вполне объясним мотивацию участников коморры, их уникальную этику, но что нам с этим делать? Строить аналогичную организацию, насаждать мотивацию и проверять будет ли работать? Как применять наши «научные познания»? Или если бы взялись изучать «дух совка» к примеру? Мы могли бы сказать, что это организация с выраженным господством элит, поддерживающих путем постоянного насилия и подавления свободы слова свою власть и порядок в обществе. Что это эффективная организация, сумевшая добиться выдающихся результатов в своем международном положении и в подчинении себе граждан. Что мотивацией граждан стала иррациональная потребность в уравнивании всех даже за счет собственной деградации. Таково положение вещей и другая уникальная этика. Как нам использовать полученные «научные знания»?
Вебер видел только одно использование своему методу: апологию и пропаганду своих взглядов и не скрывал этого. Он прямо заявлял о своем субъективизме и о своей цели защитить господствующие классы капиталистического мира от разрушительного влияния марксизма. Именно этой цели и были подчинены все его усилия в «социологии». В таком духе «социология» неокантианцев все еще может быть им полезна, но пропаганда никогда не сможет занять места социальной науки, как бы мы не относились к ее функциональной и этической ценности самой по себе.
В итоге, все эти «особые науки о духе» всегда ведут к одному результату: к демонстрации импотенции социальной науки и к признанию единственной эффективной социальной наукой – юридизм.
Социология Вебера – это в первую очередь апология положительного права и вытекающего из него государственного абсолютизма, это утверждение невозможности каких либо претензий научного знания на управление государством.
И если теоретики естественного права пишут об этике как об источнике права, то Вебер изгоняет этику не только из социологии, но еще более уверено из политики.
Напротив, теоретики истинной социальной науки настаивали на преходящем характере юридизма и на объективной этике, как источнике любой власти.
Как и следовало ожидать, Вебер согласен с Кантом, Гоббсом и Макиавелли в том, чтобы Поллак сформулировал как «утопить этику в положительном законе», а Конт назвал бы жертвой науки юридизму. Именно трудам этих людей мы сегодня обязаны тем, что теория суверенитета постепенно превращается в теорию господства правительства над народом, что идея верховенства власти правительства вытесняет идею верховенства права. Вебер высоко ценил понятия «власти», «господства», «национального суверенитета», государства как порождения положительного права и силовых институтов.
В точности такое определение государства как «установленного господства верховной власти над населением» дает и пропутинская теория государственного абсолютизма (многократно апеллирующая к социальной теории Вебера), откровенно насмехающаяся над понятиям «народного суверенитета».
И в самом деле, понятие власти означает господство над кем-то, в данном случае правительства над народом. Народ может управлять, но не может быть одновременно и господином и слугой, субъектом и объектом власти. Действительносто, из положительного права, из юридизма как самостоятельной «науки» следует идея власти как господства и идея народа как «подданного» или «слуги» правительства.
Наша задача доказать, что никакого отношения к науке данная постановка вопроса и положение дел не имеет. Не только ведущие мыслители человеческого рода, но и весь исторический процесс – яркий пример противоположной тенденции, тенденции к верховенству научного управления. И если наше научное знание все еще не готово к тому, чтобы взять все управление в свои руки, то совершенно необходимо противопоставить научные институты силовым, освободить научные институты от вмешательства правительства. Заявить о научном суверенитете, как истинном выразителе народной воли. Это значит прямое участием научных институтов в управлении страной. Но для этого наука должна заявить о себе как о социальной физике. Социология неокантианцев с ее интуитивным вчувствованием в уникальные культуры мира не сможет предъявить подобных претензий.
3. ВОЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Немного отвлекаясь от темы в связи с приведенным эпиграфом, интересно вспомнить, что Вебер был последователем Ницше и в субъективизме и отрицании социальной науки и в декларировании принципа господства в противовес демократическому равенству. Однако Ницше, которого Куно Фишер презрительно именовал «просто сумасшедшим», отказываясь писать о его творчестве, был тонким человеком, действительно раздираемым противоречивыми чувствами и мыслями. Как тонко он подметил различие между двумя противоборствующими энергиями психики в приводимой цитате и как далеко это понимание от его философии власти, в целом довольно правильно воспроизводимой Вебером.
Приведенные цитаты Платона и Ницше говорят о двух принципиально различных системах человеческих организаций, где одни основаны на господстве и подчинении, так называемой военной дисциплине, а другие на научных дебатах, свободном общении и дружеской взаимопомощи, то есть на ответственности и самодисциплине. Причем, эти союзы везде представлены как антагонистичные, отрицающие друг друга и не способные сосуществовать в рамках одной системы. А если им приходится сосуществовать, то это будет бесконечная борьба на выживание какой-то одной системы.
Такими же несовместимыми являются доктрины государственного абсолютизма и народного суверенитета. Поэтому всякая последовательная теория суверенитета всегда придерживается только одной из них: либо утверждает господство власти правительства над населением вплоть до отмены парламентаризма и участия народа в законотворчестве, либо утверждает верховенство науки и вытекающее из него верховенство права, тождество научного и народного суверенитета, и временность юридической власти правительства на службе народа.
Вебер пишет о государстве как о «союзе господства, добившегося монополизации легитимного физического насилия как средства господства». Нельзя было высказаться с большей откровенностью о презрении к демократии, этике и всем прочим гуманистическим ценностям. Вебер последовательно проводит идею исключительности положительного права, отсутствия естественной науки об обществе, отрицания этики как выражения объективных законов этого общества – и в конечном итоге о верховенстве власти правительства как единственном источнике права.
В результате он развивает теорию силовых отношений господства и подчинения обществ садо-мазохизма, в основе которых так называемая военная дисциплина. Обществ, о праве которых Гоббс писал, что закон без меча суть слова.
Если гуманистов всех времен и народов возмущают общества садомазохизма, где достаточно приказа, чтобы свершилась любая подлость, то сторонники господства приветствуют именно такой образ действий, бездумное подчинение как «образцовую дисциплину». Вот например как об этом пишут Герцен и Кропоткин:
Эксперименты «Подчинение авторитету» Милграма заставили его утверждать, что вся природа социального зла, которая в конечном итоге стоила человечеству миллионов страшных смертей в концентрационных лагерях, происходит из этой военной дисциплины обществ господства и подчинения. К тем же выводам пришел Теодор Адорно в своей книге «Исследование авторитарной личности».
Люди, слепо выполнявшие приказы во время эксперимента, хотя они не находились под присягой и никто не заставлял их насильно, были мотивированы страхом перед авторитетом ученого и тщеславием в стремлении доказать ему свою значимость и понравится ему. Они перекладывали ответственность за все последствия своих поступков на авторитетных ученых, чьим приказам подчинялись, отказываясь признавать свою вину в причинении вреда людям от своих действий по наказанию их высокими разрядами тока.
«Им хотелось продемонстрировать компетентное исполнение, но этому сопутствовало сужение моральной вовлеченности. Испытуемый доверял более широкие задачи постановки целей и соблюдения моральной стороны вопроса авторитету экспериментатора, на которого он работал.
Общая тенденция в корректировке мыслей у послушных испытуемых стремление уйти от ответственности за свои поступки. Они освобождают себя от ответственности, передавая всю ответственность экспериментатору, законной власти. Они видят себя ни как людей, которые действуют в рамках морали, но как агентов внешнего авторитета. В последовавших за экспериментах интервью, на вопрос почему они продолжали эксперимент, самым типичным ответом было: «Я не стал бы делать этого сам. Я просто делал то, что мне сказали». Неспособные проявить неповиновение авторитету экспериментатора, они переносят всю ответственность на него. Это старая история о том «что они только выполняли свой долг», которую слышали снова и снова в защитных речах тех, кого обвиняли в Нюрнберге. Но будет неправильно думать об этом, как о крепком алиби, состряпанном для случая. Скорее, это фундаментальный метод мышления большинства людей, в замкнутой ситуации подчиненной позиции во властной структуре общества. Это испарение чувства ответственности самое далеко идущее последствие подчинения авторитету.
Хотя человек, работающий под влиянием авторитета, кажется нарушающим стандарты своего сознания, не будет правильным сказать, что он теряет свое моральное чувство. Вместо этого, моральное чувство приобретает радикально другой фокус. Он не реагирует моральной сентиментальностью на свои действия. Скорее, его моральное чувство занято теперь вычислениями того, насколько здорово он справляется с ожиданиями уполномоченного властью лица. Во время войны солдат не спрашивает хорошо или плохо бомбардировка села; он не чувствует вины или стыда разрушая деревню: скорее он чувствует гордость или стыд в зависимости от того, насколько хорошо он выполнил миссию, порученную ему.
Это точно сформулировал Джорж Оруэлл:
Джон Оруэлл очень рельефно изобразил противостояние научных институтов разумной энергии и мистики эгозащиты в виде насилия, господства и подчинения в своем известном романе «1984», обозначив весь процесс как «мыслепреступление»:
Надо заметить, что Макс Вебер в книге «Политика как профессия и призвание» хвалит такой отказ от ответственности у всех, кроме «вождя» нации, стимулируя тем самым военную дисциплину и отказ от моральной вовлеченности исполнителей в существо приказов правительства. Что собственно логично вытекает из всей его теоретической системы:
Прошу обратить внимание, что эту в высшей степени безнравственную позицию, которая как правильно замечает Милграм и Оруэлл сделала возможной машину смерти Третьего Рейха, ГУЛАГи большевиков и вообще все системные убийства и казни людей, Вебер называет в высшей степени «нравственным» отношением, «выполнением своего долга», как саркастически замечают ученые.
Другое известное на весь мир исследование со всей очевидностью доказывает, что отсутствие военной дисциплины не только не значит «неделового подхода», но напротив есть единственный истинно эффективный способ ведения любого общественного предприятия. Это исследование Стендфордских ученых, Пораса и Джима Коллинза, и их книги «Построенные навечно» и «От хорошего к великому». В их основе изучение и анализ деятельности самых успешных компаний, оставивших неизгладимый след на мировой культуре, побивших мировые рынки и рекорды рыночного долгожительства.
Легко видеть из этого отрывка, что руководство наиболее успешных компаний обратили особое внимание на разницу между военной дисциплиной и ответственностью интеллигентных людей. В то же время, военная дисциплина, иерархия и «господство» сравниваемых компаний, которые ученые условно обозначили как модель «гений с 1000 помощниками» в точности соответствует веберовской модели вождизма. В другой книге «Построенные навечно» Порас и Коллинз пишут, что эти две системы не могут сосуществовать, и что если ты принадлежишь к системе с «военной дисциплиной» сообщества, основанные на интеллигентной дискуссии «сотрут вас как вирус». Точно также несовместимы понятия государственного абсолютизма и народного суверенитета.
Глава 5. Социология Гегеля и Маркса. Импотенция современной психологии
1. Линия и циклы философии истории
2. Научный контроль в обществе
3. Пространство интеллекта
«Для Гердера, например, история человечества есть непосредственное продолжение естественной истории. Гегель резко противопоставляет человеческое общество природе. Только в обществе происходит развитие. При всем бесконечном многообразии изменений, совершающихся в природе, в них обнаруживается лишь круговращение, которое вечно повторяется: в природе ничто не ново под луной, и в этом отношении многообразная игра ее форм вызывает скуку. Лишь в изменениях, совершающихся в духовной сфере, появляется новое. Природа существует только в пространстве, дух проявляется во времени, и таким его проявлением служит всемирная история»
А. Гулыга ГегельКаждое общество, каждая эпоха, каждая культура иногда даже страна, рождают свои собственные локальные специфические закономерности, которые и раскрывают подлинный смысл исторического бытия на том или ином этапе развития. Исследователь, руководствующийся принципом историзма, выделяет в развитии человечества целостные системы и к каждой из них подходит с соответствующей меркой» «Историзм как метод мышления предполагает рассмотрение социальной структуры в непрерывном развитии, когда исчезают старые закономерности и появляются новые. Если так, то, следовательно, невозможно охватить единой системой понятий развивающееся целое. В этом смысле существует известное противоречие между идеями последовательного историзма, развитыми в „Феноменологии духа“, и принципами, которые лежат в основе „Науки логики“ и „Философии истории“. В этом смысле Маркс говорил, что „не существует производства вообще“. Маркс подчеркивал, что историю нельзя осмыслить, „пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее над историчности“.



