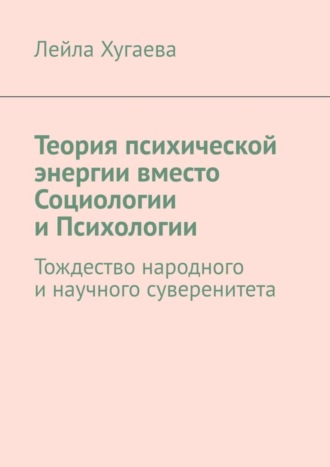
Полная версия
Теория психической энергии вместо Социологии и Психологии. Тождество народного и научного суверенитета
Однако, результатам этой свободы не позавидуешь. Ницше сошел с ума и до самой смерти так и не пришел в сознание. Гегельяно-марксисткая социология породила общество террора диктатуры пролетариата. Сартр вынужден был оправдываться в статье «Экзистенциализм – это гуманизм», что свободная воля все же ограничена гуманистической этикой. А что же сам Кант? Небесная свобода его духа в конечном итоге самым банальным образом обрела свою реализацию в… абсолютном подчинении всякой власти.
Трактуя мораль, как вмененную самому себе обязанность, смешивая юридические и этические обязанности личности, Кант абсолютно извратил понятие морали, как врожденной совести и справедливости. Согласно его доктрине, чувствовать сострадание к другим и радоваться их успехам —значит перестать быть моральными, поскольку то что приятно перестает быть обязанностью и становится удовольствием. Гулыга пишет, что гитлеровская пропаганда широко использовала этот его догмат о моральной обязанности, которая не должна ничего чувствовать.
Теория «всеобщей воли» Руссо, которой последний постарался выразить демократический принцип подчинения народа только народном законодательству, формализуется и извращается Кантом. Он старается сохранить лицо и продолжать говорить о свободе, исходя из принципа Руссо о том, что подчинение законам, которые народ устанавливает себе сам, есть подчинение самому себе. Но у Руссо «всеобщая воля» происходит из общей человеческой природы людей, из законов природы, которые все здоровые люди ощущают как потребность в совести и справедливости («Эмиль»), из реального договора наконец. В такой интерпретации речь действительно идет о народном законотворчестве, об обще человеческой воле, выражающей общую природу людей, хотя можно бесконечно спорить о степени в которой демократии доступно выражение этой всеобщей воли.
По другому понимает всеобщую волю Кант, который категорически не согласен с Руссо и в природной доброте людей и в каком то изначальном договоре, который имел место. Напротив, согласно Канту, власть впервые объединяет разрозненные воли индивидов, и этим вводит нравственный порядок. Если у Руссо, и вообще теоретиков естественного права – законодательная власть всегда выражает природную нравственность людей, их склонность к справедливости и совести, то у Канта наоборот, власть порождает мораль. Поэтому власть объявляется священной.
Действительно, все претензии на абсолютную свободу волю всегда имеют своим завершением совершенно противоположную тенденцию – полную потерю силы и рабскую ограниченность. Это не парадокс, это естественный результат разрушения силового поля человеческой энергии: его способности к познанию и контролю законов природы. Именно эта «интеллектуальная любовь к богу» как называл процесс познания Спиноза, эта страсть к познанию, о которой Платон пишет, что мы стремимся к знанию со всем жаром влюбленных сердец и составляет источник силы людей, их реальную свободу, которая по определению не может быть абсолютной. Чтобы быть сильными мы должны иметь доступ к энергии внешнего мира. Чтобы иметь этот доступ должны существовать объективные законы природы. Познание этих законов откроет нам доступ к силам природных энергий и уже открыло. И это есть наша реальная сила – сила контроля природных энергий.
Все же заявления о том, что человек сам творит свои законы, что он всесилен и не нуждается во внешнем мире, всегда на деле приводят к его полному бессилию. Так и у Канта (а позднее у Гегеля и Маркса) все претензии на абсолютную свободу закончились постулированием морали как необходимости подчинения любой власти.
Поппер называл феномен превращения абсолютной свободы в несвободу «парадоксом свободы», но на самом деле никакого парадокса в этом нет, только чистая закономерность. Очень удачно сказал об этом Кьеркегор в «Болезни к смерти»:
Глава 4. Социология Вебера: господство и вождизм
1. Юридический и научный суверенитет
2. Свободная от этики социология Вебера
3. Военная дисциплина и ответственность интеллигенции
«Мне кажется, что для анализа процесса осознания специфических особенностей природы и общества нам потребуется хорошенько усвоить одно важное различие. Это – различие между (а) или законами природы, такими, как например, законы, описывающие движение Солнца, Луны и планет, смену времен года и т. п., а также закон гравитации или, скажем, законы термодинамики, и запретами и заповедями, т. е. правилами, которые запрещают или требуют определенного образа поведения. В качестве примера нормативных законов можно назвать Десять заповедей, правовые нормы, регулирующие порядок выборов в парламент, и законы афинского полиса. естественными законами, (b) нормативными законами или нормами,
Закон в смысле закон природы – описывает жесткую неизменную регулярность, которая либо на самом деле имеет место в природе (в этом случае закон является истинным утверждением), либо не существует (в этом случае он ложен).Закон природы неизменен и не допускает исключений. Поскольку законы природы неизменны, они не могут быть нарушены или созданы. Хотя мы можем использовать их в технических целях, они недоступны изменению со стороны человека, а их незнание или игнорирование может привести к беде. (а) –
Ситуация совершенно иная, когда мы обращаемся к нормативным законам. Нормативный закон, будь то правовой акт или моральная заповедь, вводится человеком. Его часто называют хорошим или плохим, правильным или неправильным, приемлемым или неприемлемым, но «истинным» или «ложным» его можно назвать лишь в метафорическом смысле, поскольку он описывает не факты, а ориентиры для нашего поведения. Существование нормативных законов всегда обусловлено человеческим контролем – человеческими решениями и действиями. Этот контроль обычно осуществляется путем применения санкций – наказанием или предупреждением того, кто нарушает закон. (b) –
Вместе со многими учеными, в особенности социологами, я полагаю, что различие между законами в смысле (а), т. е. утверждениями, описывающими природные регулярности, и законами в смысле т. е. нормами типа запретов и заповедей, является фундаментальным и что два этих типа законов едва ли имеют между собой что-либо общее помимо названия» (b),
Карл ПопперОткрытое общество и его враги«По характеристике Поппера, это положение психологизма, что „как происхождение, так и развитие традиций должны быть объяснимы путем обращения к человеческой природе“ Эта попытка свести факты социальной жизни к психологическим законам логически вела к спекуляциям по поводу сущности происхождения и развития общества. Поиски чисто психологического происхождения социальных норм, воплощенных в разных обычаях и институтах, заставляли искать некое начало исторического развития – такое дообщественное состояние людских скоплений, когда введение в них нормативных регуляторов зависело только от психологических факторов, на которые еще не накладывалось влияние устоявшихся коллективных учреждений. Поппер верно характеризует и бесперспективность и генеалогию подобных идей: „Эта позиция является тупиковой, потому что теория, признающая существование досоциальной человеческой природы, объясняющей появление общества – психологический вариант теории „общественного договора“, – представляет собой не только исторический, но… и методологический миф. Вряд ли ее можно обсуждать всерьез, поскольку мы имеем все основания полагать, что человек, или, скорее, его предок стал сначала социальным, а затем уже и человеческим существом (учитывая, в частности, что язык предполагает общество“)» Гораздо более обоснованным выглядело бы истолкование психологического в социологических категориях, а не наоборот»
Ковалев А.Д История теоретической социологии«Защищая абсолютную власть, Гоббс склонялся к тому, чтобы по выражению одного из его соотечественников, Полока, потопить всю нравственность в положительном законе. Следуя этому основному принципу, он доходил до утверждения, что все наши нравственные представления должны определяться предписаниями власти. Он возмущался против мнения, что подданные могут иметь свое представление о добре и зле»
П. Новгородцев Лекции по истории философии права«Любая успешная политика насилия над другими странами, как правило (по крайней мере первоначально), поднимает престиж внутри страны, а тем самым силу и влияние тех классов, групп и партий, под руководством которых был достигнут этот успех»
Макс Вебер«Гейдельбергская школа неокантианцев стремилась, в частности, обосновать историческое знание с помощью методов рассуждения, отличных от обобщающих методов естествознания. Как Дильтей, так и Зиммель выступили против позитивизма и против агностицизма.. В отличие от материала естествознания, который один и тот же всюду и поэтому может быть понят через универсальные законы, относящиеся к любым областям пространства и времени, человеческая культура выступает в бесконечном многообразии различных типов, каждый из которых требует специфического понимания своей уникальности. Риккерт, Дильтей и их школа таким образом, обосновывают способ исторического бытия, метод изучения человеческой культуры или гуманитарных наук с их особым типом познания и собственными методами. Такой подход лег в основу «идеальных типов Вебера»
Джон Льюис Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера«Такой подход лег в основу «идеальных типов» Вебера, которые представляли собой не гипотезы для объяснения существующих фактов капиталистического общества, а были интуитивным восприятием «духа капитализма». Существующая система постигалась как миросозерцание, как взгляд на мир, как нечто уникальное. Она не мыслилась в терминах обобщения фактов об обществе как таковая. Таким образом, очевидно, что социология Вебера не претендует на успешное объяснение индийской кастовой системы, китайского элитаризма, основанной на рабской труде древнегреческой демократии или феодальной системы средневековья. Что будет следовать из этого? Ряд обособленных общественных порядков, любая структурно-функциональная система, противостоящая своим членам как готовый и неизменяющийся объект. Конечно, кажется довольно странным, когда социальная история человечества выглядит как множество последовательно существующих несоизмеримых «жизненных форм», каждая из которых может быть постигнута с помощью интуиции, а ее уникальность схвачена лишь благодаря непосредственному пониманию. Разве такой плюрализм есть последнее слово?
Сразу же оказывается, что если представленные Дильтеем формы культуры будут реализованы в действительности, тогда (если сделанный Тойнби перечень цивилизаций точен) мы будем иметь дело более чем с двадцатью двумя формами, для каждой из которых будет требоваться свой собственный тип культуры и организации. Трудно увидеть во всем этом возможность существования единой науки об обществе. Напротив это уводит нас в произвольный мир полной относительности, для которого не существует и вряд ли когда-нибудь будет существовать какая-нибудь научно построенная теория. Обращение Риккерта-Дильтея к особым типам обществ, возникавших в истории, могло бы дать нам действительно нечто большее, чем некую ограниченную социологию капитализма. Но недостаток их подхода состоял в произвольности появления разных типов общества. Откуда они возникли и почему? Как возникли? Никаких предположений об их возникновении, изменении или развитии не выдвигается. Их бытие таково что они противостоят нам как вещи, как они есть, готовые, законченные и принимаемые без сомнений. Именно такова точка зрения любого сторонника эмпиризма. Но это не ответ, не реальная теория, не наука об обществе. Ничего кроме необходимости рассмотрения еще не исследованной проблемы такой подход не содержит.
Дильтей напоминает нам, что нет такой социологии конкретного общества, которая раскрывала бы смысл человеческой судьбы, развития общества, как такового, смысл человеческих стремлений. Может быть какое угодно множество совершенно различных социальных систем, с разными устремлениями, целями, правилами. Мы принимаем все что есть. Именно так люди думали о себе в прошедшие века. Но с возникновением науки, изучением истории после эпохи просвещения судьба человечества стала рассматриваться как единая история развития и прогресса вместе с препятствиями, периодами застоя и регресса, которые, разумеется, вполне возможны. У тех, кто согласен с Дильтеем, не может быть никакой философии человека. Полный релятивизм истории и жизни отрицает преобладание какой-либо одной линии развития над другими и тем самым значение и направление развития как нашего собственного общества, так и других обществ. «Люди плывут в безбрежном и бездонном море: в нем нет ни гавани для укрытия, ни дна чтобы бросить якорь, ни начала пути, ни пункта назначения» Рассматривая тип общества, который предлагают нам социологи, как неизменную схему нашей жизни, мы лишь удивляемся, действительно ли не существует альтернативы, никаких иных возможностей будущего. В описании Дильтея хорошо интегрированного общества нет и намека на что-либо неприятное. В его собственном обществе покорность можно «интернализировать», сопротивление – объявить «патологией», а «отклонение» станет подходящим термином для устранения тревоги или даже чувства вины. Все может быть к лучшему в этом лучшем из миров.»
Джон Льюис Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера«Вебер попытался показать, что капиталистическая система должна исключать вмешательство в ее деятельность моральных соображений, связанных с человеческими правами, естественной справедливостью или общим благосостоянием. Таким образом, его социология свободна от человеческих ценностей как в трактовке экономики, так и социального строя в целом.
Как мыслитель он следовал традиции Канта, но его глубоко волновали экономические и политические проблемы, поднятые Карлом Марксом. Философская концепция Вебера сформировалась под непосредственным воздействием гейдельбергской группы философов-неокантианцев, и в особенности Риккерта. Вебер принял установленное неокантианцами различие между естественнонаучными и историко-социальными проблемами. Именно такой точкой зрения он руководствовался при исследовании природы капитализма и разработке концепции науки об обществе, свободной от ценностей
Государственные соображения Вебер считал превыше всех других соображений. Страстность, непреклонность убеждений, аскетическое служение чувствуется в каждой фразе его сочинений. Они часто могут быть грубыми и резкими, полными воинствующего национализма и презрения к тому, что Вебер называл плаксивой сентиментальностью. Ядро его философии заключается в том, что он рассматривает социальную жизнь в сущности как «борьбу человека против человека». Его кредо было первым недвусмысленным выражением социального дарвинизма как политической философии. Никто не должен заблуждаться относительно того важнейшего факта, утверждал Вебер, что социальное существование и национальная культура зависят от власти, необходимость в которой никогда не отпадет. «Не мир и счастье мы передаем своим потомкам, а скорее принцип вечной борьбы за существование как важнейший символ веры нашего национального рода»
Джон Льюис Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера«Но каково же тогда действительное отношение между этикой и политикой? Неужели между ними, как порой говорилось, нет ничего общего? Или же, напротив, следует считать правильным, что „одна и та же“ этика имеет силу и для политического действования, как и для любого другого? Иногда предполагалось, что это два совершенно альтернативных утверждения: правильно либо одно, либо другое. Но разве есть правда в том, что хоть какой-нибудь этикой в мире могли быть выдвинуты содержательно тождественные заповеди применительно к эротическим и деловым, семейным и служебным отношениям, отношениям к жене, зеленщице, сыну, конкурентам, другу, подсудимым? Разве для этических требований, предъявляемых к политике, должно быть действительно так безразлично, что она оперирует при помощи весьма специфического средства – власти, за которой стоит насилие? Разве мы не видим, что идеологи большевизма и “ Спартака», именно потому что они применяют это средство, добиваются в точности тех же самых результатов, что и какой-нибудь милитаристский диктатор? Чем, кроме личности деспотов и их дилетантизма, отличается господство рабочих и солдатских Советов от господства любого властелина старого режима? Чем отличается полемика большинства представителей самой якобы новой этики против критикуемых ими противников от полемики каких-нибудь других демагогов?
Кто хочет заниматься политикой вообще и сделать ее своей единственной профессией, должен осознавать данные этические парадоксы и свою ответственность за то, что под их влиянием получится из него самого. Он, я повторяю, спутывается с дьявольскими силами, которые подкарауливают его при каждом действии насилия. Великие виртуозы космической любви к человеку и доброты, происходят ли они из Назарета, из Ассизи или из индийских королевских замков, не “ работали» с политическим средством – насилием; их царство было «не от мира сего», и все-таки они действовали и действовали в этом мире, и фигуры Платона
Каратаева и святых Достоевского все еще являются самыми адекватными конструкциями по их образу и подобию. Кто ищет спасения своей души и других душ, тот ищет его не на пути политики, которая имеет совершенно иные задачи – такие, которые можно разрешить только при помощи насилия. Гений или демон политики живет во внутреннем напряжении с богом любви, в том числе и христианским Богом в его церковном проявлении, – напряжении, которое в любой момент может разразиться непримиримым конфликтом. И в связи с такими ситуациями Макиавелли в одном замечательном месте, если не ошибаюсь, «Истории Флоренции», заставляет одного из своих героев воздать хвалу тем гражданам, для которых величие отчего города важнее, чем спасение души»
Макс Вебер Профессия как призвание и политика«Современное государство есть организованный по типу учреждения союз господства, который внутри определенной сферы добился успеха в монополизации легитимного физического насилия как средства господства и с этой целью объединил вещественные средства предприятия в руках своих руководителей, а всех сословных функционеров с их полномочиями, которые раньше распоряжались этим по собственному произволу, экспроприировал и сам занял вместо них самые высшие позиции»
Макс Вебер Политика как профессия и призвание«Являешься ли ты чистым воздухом, и одиночеством, и хлебом, и лекарством для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей, но является избавителем для друга. Не раб ли ты? Тогда ты не можешь быть другом. Не тиран ли ты? Тогда ты не можешь иметь друзей»
Так говорил Заратустра Ницше«Значит, за всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывал друзьями; они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве: тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы. Душа его преисполнена рабством и низостью, те же ее части, которые были наиболее порядочными, находятся в подчинении, а господствует лишь малая ее часть, самая порочная и неистовая»
Государство Платон«Воспитанный в помещичьей семье, я, как все молодые люди моего времени, вступил в жизнь с искренним убеждением в том, что нужно командовать, приказывать, распекать, наказывать и тому подобное. Но как только мне пришлось выполнять ответственные предприятия и входить для этого в сношения с людьми, причем каждая ошибка имела бы очень серьезные последствия, я понял разницу между действием на принципах дисциплины или же на началах взаимного понимания. Дисциплина хороша на военных парадах, но ничего не стоит в действительной жизни, там, где результат может быть достигнут лишь сильным напряжением воли всех, направленной к общей цели. Хотя я тогда еще не формулировал моих мыслей словами, заимствованными из боевых кличей политических партий, я все-таки могу сказать теперь, что в Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину: я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом. На множестве примеров я видел всю разницу между начальническим отношением к делу и „мирским“, общественным и видел результаты обоих этих отношений. И я на деле приучался самой жизнью к этому „мирскому“ отношению и видел, как такое отношение ведет к успеху»
Записки революционера Кропоткин«Теперь начинают понимать несовместимость братства и равенства с этими капканами, называемыми ассизами, свободы —и этих бойн под именем военно-судных комиссий; теперь никто не верит в подтасованных присяжных, решающих в жмурки судьбу людей, без апелляций; в гражданское устройство, защищающее только собственность, » содержащее хоть сто человек постоянного войска, которые не спрашивая причины, готовы спустить курок по первой команде
А. Герцен С того берега«Пока я пишу, истребители с высоко цивилизованными людьми за штурвалом летают над моей головой, стараясь убить меня. Они не чувствуют кактй либо враждебности ко мне как к человеку, нет и у меня к ним враждебности. Они просто „выполняют свой долг“, как обычно говорят. Большая часть из них, вне всякого сомнения, добродушные, законопослушные ребята, которым не приснилось бы в страшном сне пойти на убийство в обычной жизни. С другой стороны, если кому-либо из них удастся разнести меня на куски точно сброшенной бомбой, он не станет спасть от этого сколько-нибудь хуже»
Подчинение авторитету Стенли Милграм«Если человеческое равенство надо навсегда сделать невозможным, если высшие, как мы их называем, хотят сохранить свое место навеки, тогда господствующим душевным состоянием должно быть управляемое безумие.
Мысли и действия, караемые смертью (если их обнаружили), официально не запрещены, а бесконечные чистки, аресты, посадки, пытки и распыления имеют целью не наказать преступника, а устранить тех, кто мог бы когда-нибудь в будущем стать преступником. У члена партии должны быть не только правильные воззрения, но и правильные инстинкты. Требования к его взглядам и убеждениям зачастую не сформулированы в явном виде – их и нельзя сформулировать, не обнажив противоречивости, свойственной ангсоцу. Если человек от природы правоверен (благомыслящий на новоязе), он при всех обстоятельствах, не задумываясь, знает, какое убеждение правильно и какое чувство желательно. Но в любом случае тщательная умственная тренировка в детстве, основанная на новоязовских словах самостоп, белочерный и двоемыслие, отбивает у него охоту глубоко задумываться над какими бы то ни было вопросами»
Джон Оруэлл 1984«Итак, политический чиновник не должен делать именно того, что всегда и необходимым образом должен делать политик – как вождь, так и его свита, – бороться. Ибо принятие какой-либо стороны, борьба, страсть – ira et studium – суть стихия политика, и прежде всего политического вождя. Деятельность вождя всегда подчиняется совершенно иному принципу ответственности, прямо противоположной ответственности чиновника. В случае если (несмотря на его представления) вышестоящее учреждение настаивает на кажущемся ему ошибочным приказе, дело чести чиновника – выполнить приказ под ответственность приказывающего, выполнить добросовестно и точно, так, будто этот приказ отвечает его собственным убеждениям: без такой в высшем смысле нравственной дисциплины и самоотверженности развалился бы весь аппарат. Напротив, честь политического вождя, то есть руководящего государственного деятеля, есть прямо-таки исключительная личная ответственность за то, что он делает, ответственность, отклонить которую или сбросить ее с себя он не может и не имеет права»
Макс Вебер Политика как профессия и призвание«Компании, которые добились выдающихся результатов, создали последовательные системы с четкими ограничениями, но они также предоставили людям свободу и ответственность в рамках этих систем. Они наняли дисциплинированных людей, которые не нуждались в непосредственном руководстве, и направили все свое внимание на управление системой, а не людьми. «Это и есть секрет того, как мы руководим магазинами с помощью дистанционного управления, – сказал Билл Ривас из Circuit City. – Это команда отличных менеджеров, работающих в рамках отличной системы, и на них лежит ответственность за их магазины. Вам необходимы руководители и сотрудники, которые верят в систему и делают все для того, чтобы система работала. В границах этой системы у менеджеров магазинов есть свобода действий, но есть и ответственность…
Управленческие команды великих компаний состоят из людей, ожесточенно спорящих по поводу решения, но действующих единой командой при его осуществлении, невзирая на личные амбиции. …Как и Nucor, все великие компании применяли метод интенсивных обсуждений. Выражения: «громкие споры», «горячая дискуссия», «полезный конфликт» постоянно мелькали в газетных статьях об этих компаниях. Они использовали обсуждения не для того, чтобы позволить людям «выразить согласие» и поддержать уже принятое решение. Процесс больше напоминал горячий научный спор, в котором участники пытались найти наилучший ответ.



