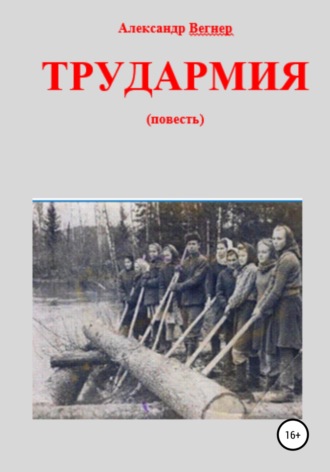
Полная версия
Трудармия
Всю ночь ждали его в доме Бахманов: выла мать, чуя неотвратимую беду, тряслись плечи у непрощённого отца. Утром поехал он с соседом (отцом Марии) на поиски, и в телеге привёз домой мёртвого сына.
Как ему ни хотелось, не мог Соломон Кондратьевич после этого умереть. Двоих внуков надо было им с женой поднимать. Боялись, что жизни не хватит. Но нет, успели. Выросли и Йешка, и Эмилия. Ну, слава Богу, есть кому похоронить! И вот – на тебе – война! Потом незнакомая, страшной казавшаяся, Сибирь. Ни кола, ни двора. Даже коровы им не дали, как Марииной семье, потому что дома не сдали. Потом забрали в трудармию внука, а сегодня и за внучкой пришли… Плакала Катрине-вейс, плакала Мария, плакала её мать, тяжко вздыхал отец. И никому не хотелось есть. Но плачь не плачь, а на работу надо – хлеб сушить.
Тюрьма
Сушилка находилась на самом краю села и представляла собой соломенную крышу на столбах, закрывавшую от дождя и снега кирпичный пол над топкой. Федька Гофман с Петькой Денисовым уже разложили по кирпичам один воз необмолоченной пшеницы, наверное, поехали за новым. Её задача – растопить топку и поворачивать вилами массу, чтобы не перегревалась, а равномерно высыхала.
Загорелся хворост в топке, пополз дым из дымохода. Кирпичи нагрелись. Взялась за вилы, перевернула слой пшеницы.
Через час на вороном Алиме прискакал бригадир Семён Васильевич.
– Сушишь? – потряс ворошок. – Пожалуй ничего! Годится! Можно молотить. Сейчас Федька с Петькой приедут, увезут.
К вечеру Мария высушила ещё два воза. Уже темнело, когда она подмела пол сушилки. Попробовала кирпичи – тёплые, но рука терпит. Если случайно что-то попадёт – не загорится. А вот и бригадир скачет:
– Семён Васильевич, – обрадовалась Мария, – посмотрите, я всё убрала, можно домой идти?
– Всё потухло? – спросил Семён Васильевич, щупая кирпичи – сколько сегодня высушила?
– Три телеги.
– Хорошо, иди.
Ветер, как показалось Марии, ещё усилился, рвал с деревьев последние листья. Темнота сгущалось, но ещё были видны бешено мчащиеся по небу тучи. Она шла по улице с бедненькими, но настоящими домами. В них уже зажгли свет. Как хорошо, у кого есть свой дом со светом. А ей в тёмную землянку с лучиной, с огромными тенями, прыгающим по неровным земляным стенам.
Вдруг над головой трах-тах-тах, – будто лопнуло что-то. Посыпался огонь прямо перед нею. Это провода схлестнулись, успокоилась она и перешла на другую сторону улицы подальше от столбов.
Мать с отцом уже дома. Мать плачет. Отец крепится, но и ему тошно. Всего десять дней осталось. Мать уже подоила корову, испекла оладий. Сегодня праздничный ужин. Праздничный, но невесёлый. Пододвинули стол к бабушкиной кровати, вернее лежанке:
– Мама, посидите с нами, – говорит отец.
– А что за праздник? – спрашивает бабушка.
– У Марии день рожденья.
– Да? А какой сегодня день?
Отец смотрит на календарь, привезённый из дому, и укреплённый на дощечке в красном углу землянки:
– Воскресенье.
«Боже мой. Неужели сегодня было воскресенье?! – думает Мария.
За дверью какой-то шорох. Постучали.
– Кто там? – спрашивает Мария.
– Das bin ich4, – голос Катрине-вейс.
Вошла вся в слезах. В обед она не так убивалась. Сейчас еле слова из себя выдавливает.
– Дайте, ради Бога, немного молока, хоть кружку, если есть.
Никогда она ничего у других не просила. Ох, наверное, опять у них горе. И не Эмилия ему причина.
– Что случилось? – спросила Мария, но Катрине-вейс только рукой бессильно шевельнула: мол, не спрашивайте. Взяла кружку молока и ушла поспешно.
Легли рано. На улице делать нечего, а в землянке темно. Заснули крепко. Как ни возбуждены нервы, а физическая усталость своё взяла. Провалилась Мария в бесчувственную черноту. Век бы из неё не возвращаться!
Проснулись от грохота. Всегда тревожно, когда стучатся к тебе в дом ночью. А когда рядом с тобой подпрыгивает от ударов хлипкая дощатая дверь землянки!?
Вскочили ошалелые обитатели:
– Allmächtiger Gott, was ist doch los?5 – голос отца.
– Слышим, слышим! – закричала Мария, натягивая платье – Дверь выбьете!
В ответ грубый мужской голос:
– А и выбьем, коли надо будет! Открывайте быстрее! Милиция!
– Herr Jesus! Die Miliz!6 Лампу-то, лампу зажгите! Лампу куда спрятали?
Мария метнулась в угол землянки, нащупала на самодельной этажерке керосиновую лампу, поставила на стол, на печи нашарила спички.
Осветились стены их земляной комнатки. Заметались, заплясали по ним тени. Отец прыгает, пытаясь попасть ногой в штанину, мать накидывает на себя пальто. Бабушка села на лежанке, оглядывается потерянно, ничего не может понять.
– Чего возитесь? – голос за дверью. – А то правда дверь вышибем!
Мария отбросила крючок. В землянку ворвался холод, а следом зашёл милиционер в шинели и форменной фуражке, за ним второй. Сразу заняли полземлянки.
Мария едва успела отскочить, чтобы ей не наступили на ноги.
– Кто тут Мария Гейне? – спросил передний.
– Это я, – ответствовала она чужим голосом, леденея от ужаса.
– Собирайтесь, вы арестованы!
– Ах-ха-ха-ха-ха-а-а! А-а-а-а! – завопила мать. А у Марии даже сил не было спросить: «За что?».
Мария надела машинально рабочую фуфайку, повязала шаль. Жалко и сиротливо вцепились в неё два репья. Не помня себя от ужаса, вышла из такой родной теперь землянки. Родители хотели броситься вслед за ней, но не посмели – уж слишком страшно звучало слово «милиция».
На северной окраине села небо было тускло красным. Мария этого не замечала, переваривая внезапно свалившийся кошмар, пока милиционер не спросил:
– Твоя работа?
– Какая работа?
– Кончай придуриваться! Сушилку ты подожгла? – он мотнул головой в сторону зарева.
– Не поджигала я ничего, – выдавила из себя Мария и разрыдалась.
Пока шли к милиции, повалил снег. Бил в лицо, таял и перемешивался с её слезами. Она не замечала ни ветра, ни снега. Ничего в мире не было, кроме огромного удушающего ужаса.
– И-ииии-иии, – запели входные двери:
– Задержанная, прох-ходи! – сказал второй милиционер, не проронивший до этого ни слова.
– И-ииии-иии – бум! – раздалось за спиной. Перед ней открылись ещё одни двери, и она оказалась в коридоре, освещённом несколькими тусклыми лампочками. За столом недалеко от входа сидел пожилой милиционер, наверное, дежурный по тюрьме:
– Принимай задержанную, Фадей Гордеич, – сказал ему второй милиционер, который оказывается был старше стучавшего в землянку.
– Призналась? – спросил, вставая, Фадей Гордеич. – Что говорит?
– Ничего не говорит, только воет.
– А что выть? – ласково улыбаясь сказал дежурный. – Не виновата – отпустим, а виновата, будешь отвечать по всей строгости военного времени. Пойдём! Поселю тебя рядом с землячком.
Долго шли по бесконечному коридору, становившемуся всё темней, наконец свернули в закуток, в котором почти совсем не было света. Но дежурный без промаха вставил ключ и открыл перед ней дверь камеры, щёлкнул снаружи выключателем и сказал, указывая на железную кровать, застеленную каким-то тряпьём:
– Располагайся.
Опять заскрежетал замок, свет погас, и в кромешной тьме она завыла так, что самой стало страшно. Под утро она то ли уснула, изнурённая, то ли потеряла сознание.
Очнулась, когда за окном уже стали видны заснеженные кусты, дальше за забором труба кирпичного завода. Совсем далеко – белые крыши домов и сараев. В эту ночь наступила наконец зима. Как она любила первый снег ещё совсем недавно. А сейчас всё – жизнь сломана… Кончилась жизнь! Её стал колотить озноб. В камере действительно было холодно. А на воле ветер утих, и небо прояснилось. Вставало солнце. Снег заискрился. Всё также, как в прошлом году, как в позапрошлом, когда она со своими однокурсниками пешком шла по такому же чистому первому снегу в педучилище.
Вздрогнула от звука открываемого замка. Дежурный – не вчерашний, но тоже пожилой, можно даже сказать, старичок – сказал буднично, по-домашнему:
– Гейне, тебе передача – картошка-лепошка, – и милиционер улыбнулся всеми своими морщинами: мол, я не передразниваю, мне так сказали, я передаю.
Их красная чашка. А в ней несколько картофельных лепёшек. Золотистая корочка с двух сторон. И запах, наверное, вкусный, только она сейчас ничего не чувствует – ни запахов, ни вкуса. Во рту всё пересохло, язык деревянный, и в глотке ком – ничего не пропускает. А чашка ещё тёплая. «Встали, наверное, до свету, нажарили и сразу с печки мне понесли… А может ничего, может обойдётся, разберутся. Не виновата ведь я».
Только так подумала, а замок уже снова скрежещет:
– Гейне, на допрос.
Кабинет. В другом конце того же здания. Солнце в окно. За столом молодой милиционер. Гимнастёрка, красные петлицы на воротнике.
– Младший лейтенант Чалов. Веду ваше дело, – посмотрел на неё. Долго смотрел, выжидающе. – Ну рассказывайте.
– Что рассказывать?
– Как сушилку подожгли.
Её снова затрясло, полились слёзы:
– Не поджи-и-га-ла я! Я ушла… всё… уже потухло.
– Так, потухло, говоришь? А кто это может подтвердить? Что всё потухло и погасло?
– Бригадир был, Семён Васильевич. Он сам кирпичи щупал. Они уже холодные были. Спросите его…, – хорошо, что в платье носовой платок оказался. А то сидела бы сейчас, размазывая сопли и слёзы.
– И когда же он щупал?
– Перед тем, как я домой пошла. Он пощупал и отпустил меня.
Тут Чалов усмехнулся и сказал:
– Ну хорошо, а в котором часу отпустил?
– Не знаю, темнеть стало. Сумерки были. Где-то в семь.
– В семь… А загорелось в двенадцать. Выходит, ты пошла домой, потом вернулась и подожгла?
– Не поджигала-ааа! Мы поужинали и спать легли-и-ии!
– Не поджигала? А отчего же тогда загорелась? Или она сама себя подожгла? Сушилка-то?
– Не знаа-а-а-а-ю!
– Может подложила что-то, чтобы тлело, а потом разгорелось? Или спички как-то так разложила, чтобы огонь пополз?
– Ничего я не дела-а-ла! Я и не умею, и не знаю…
– А может бригадир поджёг?
– Не-е-ет! Я пошла, и он ускакал. На коне он был.
– Ну хорошо, устрою тебе очную ставку с бригадиром. Подожди пока.
Чалов позвонил в правление колхоза, и через десять минут Мария уже видела в окно, как Семён Васильевич мчится галопом, и сырой снег комьями вылетает из-под Алимовых копыт. Прыг с коня у коновязи, и через несколько секунд бригадир уже входит в кабинет – да, серьёзная организация милиция.
– Ну что бригадир. – сказал Чалов. – Вот гражданка Гейне утверждает, что ты последним видел сушилку перед пожаром. Говорит, в семь часов вечера ты всё осмотрел, проверил, пощупал, её отпустил, а сам остался.
– Не говорила я так. Мы вместе ушли.
– Вместе что ли подожгли?
– Да вы что, товарищ младший лейтенант. Я вчера один раз там был… В обед, – глаза Семёна Васильевича забегали, будто он не знал, куда их деть. – Приехал, посмотрел, как сушится. Сказал: сейчас ребята ещё воз привезут на сушку… И всё… Вечером я её не видел, и не отпускал. Она сама должна была знать, когда можно уйти.
– Понятно, так и запишем. Гражданку Гейне не видел, уходить от сушилки не разрешал. Правильно?
– Да, так и было.
– Семён Васильевич, – закричала она в отчаянии, – разве вы не помните, как щупали кирпичи, сказали «иди домой».
– Нет, товарищ младший лейтенант, клевета, не видел я её.
– А может, всё же видели, товарищ бригадир? А? Может вы подожгли?
– Да что вы, товарищ младший лейтенант! Мне-то зачем?
– А ей зачем?
– Ну… она того… немка…, – руки у Семёна Васильевича забегали так же суетливо, как глаза… – Может своим помогает…
– Так и запишем: «Считаю, что сушилку подожгла гражданка Гейне из вредительских побуждений». Верно?
– Выходит, так.
– Выходит «так» или просто «так».
– Ну так, наверно…
– Ладно иди.
После того, как ушёл Семён Васильевич, и рухнула её последняя надежда, Мария заголосила уже, не сдерживаясь.
– На вот, подпиши протокол, – сказал Чалов.
Но Мария ещё сегодня ночью решила ничего не подписывать, тем более, не понимая, что подписывает. А сейчас она вообще не способна была что-то понимать.
– Ну хорошо, – сказал Чалов, – так и напишем: «Подписать протокол отказалась»!
– Что теперь будет? – всё-таки смогла спросить Мария сквозь свои вопли.
– Суд решит, что будет. Судить тебя будут.
Услышав слово суд, она совсем ополоумела и стала кричать уже по-немецки.
Мария не помнила, как шла в камеру, как очутилась на кроватном тряпье. Кричала и плакала весь остаток дня. А поздно вечером вдруг услышала глухой стук в стену. Этот еле слышный стук вернул её к действительности. Мария стала воспринимать звуки, обращать внимание на свет автомобильных фар за окном, и вскоре уснула так крепко, будто умерла.
Утром пришёл тот же старый милиционер. Принёс ложку овсяной каши и светло-жёлтую жидкость в алюминиевой кружке, наверное, чай.
– Ох, и кричала же ты вчера, дочка! У меня самого глаза на мокром месте были: «Чего, – думаю, – девчонку мучат?» Ты только никому не говори, что я так сказал. А то…, – махнул он рукой, – можешь и сказать, мне старику всё равно, прожил я своё. Но лучше не говори… А картошку-лепошку что же не съела?
– Не могу… Хотите, съешьте.
– А что, давай, пожалуй, не пропадать же. Смотри только не пожалей.
– Не пожалею.
Чай смогла выпить, а кашу не стала.
Наступило какое-то отупение: ну и пусть, будь что будет…
Вскоре опять пришёл милиционер, в руках другая – синяя – их чашечка:
– Новая картошка-лепошка приехала. Ты уж того, поешь.
– Берите себе.
– Нет, нет, больше не возьму. За то спасибо. Вкусная картошка-лепошка. А эту обязательно сама съешь. Не бойся, за сушилку ничего тебе не будет – ей грош цена копейка. Да председатель ваш, вроде как за тебя просил. Точно не скажу, но слышал краем уха.
Оставшись одна, она принюхалась – от жаренной в масле картофельной лепёшки исходил аромат, чудеснее которого не было в её жизни. Она отломила кусочек, а потом с жадностью проглотила все три «картошки-лепошки».
В стенку опять постучали, как вчера вечером. Но она опять не решилась ответить. А вскоре пришёл дежурный и принёс ведро с тряпкой:
– На-ка, полы помой – время веселей пройдёт.
Она вымыла весь коридор, а когда заканчивала мыть пол в закутке для арестантов, возле двери соседней камеры, в неё вновь постучали. Из-за двери донёсся хриплый, простуженный голос:
– Мария! Это ты?
– Я. А вы кто?
– Я Йешка Бахман.
– Йешка! Но ведь ты в трудармии!
– Я убежал. Меня позавчера вечером поймали. Я страшно хочу есть. Передай своей маме, пусть мои мне что-нибудь принесут. Поняла?
– Да.
– Что ты дочка? Разговариваешь с кем? – спросил появившийся дежурный.
– Нет я так, головой о косяк стукнулась.
На следующее утро её вызвал Чалов:
– Ну вот что, Мария… Фридриховна, Маруся, Маша, Марейка – как там тебя? Приходил вчера ваш бригадир Семён этот Васильевич. Отказался от своих показаний. «Струсил», – говорит. «Не смогу, жить, если буду знать, что девчонку погубил». Председатель ваш был. Тоже хорошо о тебе отзывался. «Давай, – говорит, – лейтенант, спишем на провода. Ветер, мол, сильный был, захлестнуло, искры полетели, попали на соломенную крышу». Далековато, конечно, до проводов, но чем чёрт не шутит, может и правда долетели. Я всё это начальству доложил. Начальство решило: «Раз повестка есть, пусть отправляется в трудармию, нехай там разбираются вредитель она или нет». Так что бери свои манатки, и брысь отседова, пока мне своими воплями все кадры не разложила.
И вот ей принесли её фуфайку и шаль, а на шали те же два репья. Репьи из родного дома. Она даже срывать их не стала, надела на голову вместе с ними.
И вот открылась дверь на пружине, и также за её спиной:
– И-ииии-иии – бум! – как той несчастной ночью.
Жигули
Морозы в этом году сразу принялись за дело. Двадцать градусов днём с обжигающим ветром. Снегу сразу выбросило на полваленка, и перестал на утренней заре пастух выгонять коров из хлева7.
Катрине-вейс теперь у них каждый день. Нечего больше таиться. Рассказала она, как пришёл Йешка. Они сидели втроём в землянке и ужинали, когда тихо-тихо постучали снаружи. Она открыла дверь, а там Йешка: грязный, обросший, без шапки, в одном пиджачке.
– Боже мой, – говорила она, всплёскивая руками, – что он рассказал! Да и рассказывать не надо – всё по нему видно. Кожа да кости. Он говорит, в трудармии такой голод! Хлеб дают четыреста грамм, а варёного – пустой суп и не каждый день. Не выдержал он. Пока ещё лето было и можно что-то в лесу найти – грибы или ягоды – он терпел. А осенью совсем плохо стало. Решил убежать. Я говорю: «Йешка, да как же ты осмелился на такое. Ведь тюрьма это, а может и хуже!» А он говорит: «Хуже ничего не может быть. Мне и так, и так смерть. А от голода она страшней всего, потому что медленная». Десять дней ехал снаружи на вагонах. На крышах. Днём прячется, ночью едет. А ведь холод! Его так продуло. Говорит: «У меня всё болит, грудь изнутри опухла, я ни дышать, ни кашлять не могу». Ну что делать?! Такого кашля я никогда не слышала! Говорю: «Подожди, сынок, я тебе молока вскипячу, чтобы кашель стал мягче». Пошла к вам за молоком, вернулась, а там уже милиция. Он еле успел одну картошечку съесть. Я заплакала, говорю, позвольте мне его покормить, молоком кипячёным напоить – слышите, как он кашляет. Потом заберёте. Он не убежит. А они: «У нас его и накормят, и напоят!». Ох-ох, за что нам такое?! Неужели Бог нас всё ещё карает, из-за того, что Фридрих был вор? Ну он был вор, а дети его чем виноваты? Какие муки он вытерпел! Йешка-то! Не понимаю, как он живым добрался. Десять дней без еды. Ещё нашёл силы пешком от Каргата дойти – сто километров. Ведь такой ветер! Такой ветер был в последний день! А он в одном пиджачке и без пуговиц. Бедные мои внуки! – и она принималась рыдать, а, слушая её, не могли не заплакать и Мария со своей матерью.
– Зачем мучить людей! Ведь он работал, делал всё что надо. Зачем не давать людям кушать!? – всхлипывала несчастная старушка. И в этом всхлипе чувствовалось Марии жалоба на всю несправедливость того, что так безжалостно обрушилось на её семью. Но уходя домой, она непременно говорила: «Вы уж, ради Бога, никому не рассказывайте, что я тут говорила». Конечно, не расскажут.
Ох, маята, маята! В тюрьме-то трудармия казалась спасением, а сейчас, после Йешкиного побега…
Так Мария маялась до отправки. Чувствовала себя отрезанным ломтём, и отец с матерью смотрели на неё так, словно на смерть провожали.
В последний день отпустил её Платон Алексеевич пораньше с работы. Натопили мать с отцом землянку пожарче. Она помылась, оделась в чистое, и стала ждать завтрашнего дня. Назавтра простилась с матерью, с безучастной ко всему бабушкой, и отправилась в военкомат. Отец пошёл её провожать, а мать осталась дома, потому что бабушка могла умереть с часу на час.
В десять часов подошли машины, мобилизованные расселись по кузовам, отец, до последней минуты не выпускавший её руки, вдруг показался ей таким маленьким и старым, что его стало жальче, чем себя. Вот и моторы завелись… Ну ещё минутку дайте побыть дома… Нет, тронулись. Поехали. Отец бежит следом. Зачем-то снял шапку и машет ею. Всё! Отстали. Но ещё мелькают знакомые дома. Вот и они остались позади. Выехали за село на каргатскую дорогу. На дорогу в неизвестность. Полдороги ехали, плакали о том, что осталось там, в Кочках, где теперь их дома, вернее, их землянки. А потом стало не до слёз. Замёрзли, «задубели», как говорят в Кочках даже под тентом. Два раза останавливались в придорожных сёлах отогреваться. Сто километров ехали до самого вечера. Несколько раз застревали в рыхлом снегу перемётов. Спрыгивали, выталкивали машины. Влезали назад все в снегу. К концу путешествия столько его нанесли – весь пол снегом утоптали.
Мария сидит на скамейке рядом с Эмилией Бахман. Милька красивая: высокая, стройная. Лицо румяное, ямочки на щеках, а волосы – в косы заплетены – чистое золото. Они в позапрошлом году вместе ходили в Марксштадт. Мария, Эрна Дорн и Сашка Муль – в педучилище, а Эмилия в техникум механизации на первый курс. Втемяшилась ей в голову блажь с машинами возиться.
Невесело Мильке сегодня. Мария ничего не спрашивает. Знает, что о Йешке Милькины мысли. Если простилась Марии копеечная сушилка, то дезертирство во время войны не простят точно.
Приехали в Каргат при фарах, переночевали в школе прямо на полу рядом со сдвинутыми партами. А наутро – на вокзал. Над вокзалом красные знамёна. Ах, да! Завтра же праздник! Двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
Народу набилось в помещение – яблоку негде упасть. А за окнами поезда проносятся. Сначала слышится шум, вибрирует пол, пролетает паровоз, высоко выплёвывая клубы чёрного дыма, следом несутся вагоны, и ветер наконец приносит паровозный дым от уже улетевшего паровоза и швыряет в окна. А вагоны всё мелькают один за одним: Высокие с углём, низкие платформы, заставленные чем-то, видимо, секретным, укрытым брезентом, теплушки с людьми.
Спешат, спешат поезда! На запад, на запад! К фронту. Вот ещё люди прибыли.
– Откуда?
– Из Довольного.
– А мы из Чулыма.
Хотят войти, но их встречают люди в форме: «Нет места, не толкитесь, на улице подождите. Сейчас посадка.
На самый дальний путь почти незаметно подкрался паровоз с теплушками и встал.
– Наверно, наш!
Команда:
– Выходи!
На улице кто-то хватает за руку:
– Maria! S´ bist wohl du?!8
Тётя Эмма Кригер – мамина сестра! Хоть один родной человек будет рядом с ней! Обнялись, поцеловались.
– Тётя Эмма! А вас-то почему взяли. Вам же уже есть сорок пять.
– Нет, мне только через две недели будет.
– Знаю, но подумала, что две недели не считаются.
– Сейчас каждый день считается.
Пошли, действительно, к тому остановившемуся поезду. Встали. Перекличка. Кого назвали – два шага вперёд. Один военный выкрикивает по списку. Другой рядом стоит, следит, шагают ли названные вперёд.
– Рядом становиться! Рядом становиться с предыдущей!
Ох долго! Подальше – к хвосту – такая же толпа. Тётя Эмма успела рассказать, что живут в деревне, далеко от райцентра. Осень или весна – грязь непролазная. В прошлом году ехали из Каргата на лошадях четыре дня. Телеги вязли по самые оси. Всё безотрадно: болота да камыши, и серое небо над головой.
– Ну да теперь привыкли. Овец пасла. Ну а вы как? Слышала, что в Кочки попали…
– Да. До весны на квартире жили, теперь в землянке. Бабушка совсем плохая. Ждём с минуты на минуту. Может уже умерла…
– И я отца оставила на эту… на Давидкину жену. Мужа и Давида той зимой ещё забрали, а у неё ребёнок – два года. Из-за ребёнка и не взяли. Я уехала, так на ней теперь дитё двухлетнее и наш отец восемьдесят пять лет. А она бестолковая – боюсь, обоих уморит. Ох, помню я маму, как она сидела за столом и грызла сусличью ножку… Эта картина со мной будет до смерти. В тот год онá умерла от голода, теперь, видно, очередь отца.
– Мама тоже это вспоминает. Она же тогда у вас была… Видела. Тоже мучается, что ничем не могла помочь.
– На ней родители твоего отца были. Что она могла?! Так уж, наверно, Бог хотел.
Но наконец, первый военный передал бумаги, по которым читал, второму – тому, кто следил. Тот расписался, подложив планшет. Ага! Первый сдал, второй принял. Их сдали и их приняли.
– По вагонам!
Отъехали в сторону ворота. Полезли в вагоны. Напротив входа – печка-буржуйка. С обеих сторон от неё двухэтажные нары. Занимай места! Где лучше? Рядом с печкой? Зато дверь рядом, а плотно ли заделана? Нет, лучше посередине. Это не Мария решила, а тётя Эмма. Она сохранила умение рассуждать даже сейчас. Она займёт место снизу, а Мария с Эмилией над нею. Все из Паульского будут вместе. Что-то застучало снаружи, заскреблось по вагонной стене: хлоп: упала крышка, закрывавшая окно, хлоп: упала вторая. Будут ехать с комфортом. Даже зимними пейзажами можно любоваться. Если конечно, будет охота…
Вот и двери закрыли.
– И-и-и! – завизжал гудок, и понёсся по соседнему пути поезд, загрохотал сотнею колёс. Мелькают в двух окнах вагоны. Невольно тянутся вверх, чтобы посмотреть. А когда пронёсся, оказалось, что сами уже едут. Куда едут? Пока на запад.
Рассаживаются по занятым местам. Знакомятся:
– Кто из Паульского? – спрашивает тётя Эмма.
Никто не отзывается.
– Из Фишера есть кто-нибудь? – громко спрашивает женщина лет двадцати пяти – двадцати шести.
– Я из Фишер, – отвечает высокая рябая женщина, откинув с головы на плечи шаль.
– А почему я вас не знаю?
– Как твоя фамилия?
– Ирма Шульдайс.
– А, ну я твоих родителей знаю. А ты меня и знать не можешь. Когда я уехала из Фишер, ты была маленькая девочка. Меня зовут Фрида Кёниг.







