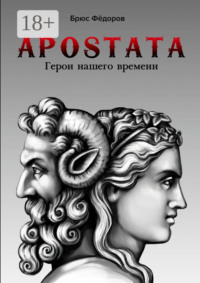Полная версия
«Z» Land, или Сон на охоте
Добравшись до кладовой, они облегчённо вздохнули: на длинных полках плотно друг к другу стояли картонные коробки с мясной тушёнкой, рыбными консервами, банками с зелёным горошком, солёными огурцами и многим чем ещё.
– Ты посмотри, чего они сюда натаскали, скарабеи! – восторженно воскликнул бывший коммунальщик, потрясая обеими руками, в которых держал пакеты с сублимированными суповыми наборами. – Ты посмотри, чего здесь только нет: сухие галеты, печенье, сахар. Даже сухая морковь и специи – и то имеются. Вот это удача так удача.
– И я говорю. Хорошие у них были повариха со снабженцем. Добросовестно потрудились. Нам это на пользу, – радостно промурлыкал Чистяков. С его души будто камень свалился. – Здесь даже не только топлёное масло есть, но и сухое молоко в тубах. Нам оно крайне нужно.
– А ты на это взгляни, – Глеб почти силой поволок друга к стеллажу, на котором ровными рядами выстроились стеклянные банки с томатным, яблочным и апельсиновым соками. – А малиновое варенье ты видел? Да вот же оно. Не туда глядишь.
– А соль, соль есть? Она всему голова, – не унимался предусмотрительный пожарный чин, хватаясь то за одну коробку, то за другую, точно боялся, что всё неожиданно обретённое ими спасение растворится в воздухе.
– Да вот же. Целый ящик, – Долива торжествующе выхватил одну из бумажных пачек и поднял её над собой, не замечая, как из надорванного нижнего уголка белоснежной струйкой стало высыпаться драгоценное вещество.
– Ты осторожно, парень. Давай поменьше восторгов, – сухо заметил Чистяков, подставляя ладонь под льющийся из пачки водопадик из мельчайших «снежных» кристалликов. – Нам нужно до крупинки всё сберечь. Это очень здорово, что мы нашли в этом лабазе и муку, и крупы с макаронами. Надо бы также перебрать в клетях картофель и капусту. Чувствуешь, гнильцой попахивает? – Филипп выразительно пошмыгал носом. – Завтра всё пересчитаем, чтобы понять, сколько продуктов приходится на нос.
– На какой такой нос? – оторопел Глеб и присел на край клети для хранения овощей, поражённый неожиданным поворотом разговора. – Ты хочешь сказать, что мы займёмся распределением всего этого? – он выразительно обвёл указательным пальцем помещение складской, задерживаясь взглядом на каждой полке. – Не круто ли берёшь, полковник? Там, в казарме, их целая орава сидит и зубами щёлкает от жадности. Ты только им скажи, что здесь находится склад продовольствия, вмиг налетят. Всё по своим сусекам разнесут, крошки не оставят. Здесь такая свара начнётся, не остановишь. Кровью пахнет. Разве не чувствуешь?
– Значит, ты в людей не веришь, Долива? – задумчиво проговорил Чистяков и пристально взглянул в глаза своему другу так, как если бы впервые увидел его. Будто не было до того долгих лет крепкой дружбы, весёлых застолий и совместного увлечения охотой. Сколько крепких походных башмаков стёрли они вдвоём на каменистых тропинках, пробираясь по горным кручам? Неужели позабыты воспоминания об отчаянных событиях, когда страховали друг друга от случайно сорвавшегося с отвеса валуна, который с грохотом нёсся вниз прямо на них, увлекая за собой попутные камни? Разве тесно было им на узком плоту из наспех сколоченных брёвен таёжного валежника, который выносил их через пенистые пороги из лесной глухомани к человеческому жилью? Тогда не возникали вопросы о взаимном доверии, когда под курткой-ветровкой бугрились плечи от сведённых в отчаянном усилии мускулов, а ладони, не подчиняясь воле, скользили по мокрой поверхности шеста, которым надо было выправить их утлое судёнышко на стремнину реки, подальше от торчащих над её поверхностью грозных, словно заточенных по краям булыг. – Я тебя так должен понимать? – закончил свой вопрос Филипп.
– Тут гадать не приходится, чудак ты человек, – Глеб вскинулся, как пришпоренная жокеем скаковая лошадь. – Именно всё так и случится. И если хочешь знать, то в голодных людей я не верю, а в потерявших веру в себя тем более. Да ты сам, Филипп, рассуди, какое сообщество мы застали в этом заброшенном месте? И вот что, кончай буравить меня своими глазками. Я твердокаменный. Все свёрла обломаешь. И вот что ещё я тебе скажу, а ты послушай. Внимательно послушай, чтобы потом горько не было. Этим продуктам, что мы нашли, цены нет. Прежние бумажные деньги – фантики, даже золото с брильянтами – всё это пустое. Этот склад наш и только наш. Он не для всех, а только для избранных, то есть для нас с тобой. Если хочешь, можем привлечь в свою команду ещё несколько самых крепких мужиков. Только так сможем выжить. А остальные, слабаки и доходяги, обречены. Они как бы ещё есть, но их уже нет. Ты же сам это прекрасно понимаешь, только сказать об этом прямо не хочешь. В добренького и справедливого играть всегда сподручнее. Так, конечно, совесть свою удобнее лелеять. А я говорю как есть, так, как должно быть по разуму, – Долива громко перевёл дыхание и с напряжением принялся ждать ответа от своего друга. Но тот молчал.
Отсутствие реакции со стороны Чистякова ещё больше взвинтило градус спора:
– Херувимом хочешь прослыть? – почти выкрикнул Долива. – Напрасно. Поздно уже. Кончилось царствие земное, да и небесное тоже. Нет больше ни ангелов, ни бесов. Никого нет. Ты хотя бы это понимаешь, каменная твоя башка? – Глеб приблизился к Филиппу и уцепился за рукав его «штормовки», явно намереваясь крепко встряхнуть своего неуступчивого приятеля, но сделать ему это не удалось. Чистяков резким движением отстранился от напарника и скинул его руку со своего плеча.
– Ты говори, договаривай, не стесняйся, – лишь глухо промолвил он.
– И скажу, всё скажу. Думаешь, нет? – вновь вскипел Глеб. – Я долго гнал от себя эту мысль просто потому, что не мог примириться с ней. Думаешь, мне легко всё это говорить? Я намеренно для себя отвергал твои намёки и «научные» заключения, потому что не мог найти в себе силы взглянуть правде в глаза. А сейчас не могу, а вернее, не хочу больше обманывать себя. Ты прав. Это никакое не землетрясение и не второй Тунгусский метеорит. Это ядерная война. А это значит – ужас без конца. Это значит, что нет ни только прошлого, но нет и будущего. По нашей стране нанесён массированный ядерный удар, и я теперь уверен, что и по нашему родному Нижнереченску тоже, так как город стоял в окружении военных баз и шахт для запуска ракет стратегического назначения. Теперь от города, в котором мы жили, остались одни руины, если остались. В этом сомнения нет, так как ударная волна вкупе со световым излучением распространились по огромной территории. В этом мы только что убедились, как только включили счётчики Гейгера.
– Что же ты опять молчишь? – тонкие губы Доливы, рассечённые шрамом от перенесённой в детстве «заячьей» болезни, скривились в презрительной ухмылке. – Ладно. Молчи себе на здоровье. Тогда я подведу черту сказанному. Наши семьи, дети, близкие – все превратились в прах или отпечатались «тенями» на каменных остовах разрушенных зданий. Кто выжил – корчится в агонии лучевого поражения. Больше никаких законов, норм морали и прочих порядков совместного цивилизационного проживания не существует. Сейчас главенствуют другие правила, и основное из них – выживает сильнейший. Любым способом, любым образом, как угодно. Ну что, нравится тебе такая картина? – как-то сразу Глеб почувствовал, что у него стало легче на душе, словно тяжёлый камень скатился с неё. Он открылся, сказал то, в чём был теперь глубоко убеждён. Теперь легче не только говорить, но и действовать.
Пафосное признание или вычурная откровенность могут произвести впечатление на слушателей. Так думал Глеб Долива, но так не думал Филипп Чистяков, который продолжал упорно хранить молчание. Более того, он повернулся спиной к своему строптивому другу и, взяв наугад одну из банок с тушенкой, теперь внимательно изучал её, с трудом разбирая мелкие буквы, которыми была напечатана стандартная этикетка, надёжно приклеенная к покатой боковой поверхности.
– А ведь если верить тексту, в этой тушенке должно быть приличное содержание говядины. Если это так, то это – весьма замечательно и может выручить нас. В говядине много белка, а он быстро восстанавливает силы, которые нам всем потребуются. Дело в том, что в условиях повышенного радиационного фона в организме быстро накапливается усталость, а заодно и апатия ко всему: к работе, к другим людям и даже к самому себе, – бывший начальник пожарной службы Нижнереченска не был расположен к длительному разговору с таким же бывшим главой коммунального городского хозяйства. Достаточно просторная кладовая неожиданно показалась ему узкой и тесной, а скопившийся в ней воздух смрадным и удушливым.
– Так ты мне ничего не ответишь? Презираешь меня? Так тебя я должен теперь понимать? – прошипел Долива. Ноги его согнулись в коленях, а сам он как бы сгруппировался в позицию, удобную для того, чтобы прыгнуть на спину стоявшего рядом с ним человека, которого он уже начинал презирать.
– Отчего же, отвечу, – Филипп медленно повернулся и равнодушно взглянул на своего друга. – Во-первых, прекрати истерить, во-вторых, собранные в этом месте продукты являются общественным достоянием, то есть принадлежат всем.
– А что в-третьих? – выдохнул Глеб. Его выпуклые и блестящие то ли от гнева, то ли от злости глаза утонули в синюшных кругах от выросшей на щеках двухдневной щетины. На верхней губе выступили крупные капли пота, а голова подрагивала почти так же, как это делает игуана в минуту опасности. – Что в-третьих?
– А в-третьих, – сухо усмехнулся Чистяков, – собирай в эту пустую коробку консервы, галеты, сок для детей и больных. Да и тушёнку не забудь. Люди, поди, заждались нас на своих кроватях. Дверь в кладовку надо закрутить толстой проволокой. Кстати, подходящий кусок валяется вон в том углу.
– Хорошо. Я сделаю, как ты велишь, но я вижу, что ты говоришь одно, а ведь думаешь обо мне, что я – сволочь, – горячечно вырвалось у Глеба.
– Поверь, что нет, – последовал короткий ответ, – но запомни: у человека всегда есть выбор, кем быть: или князем земным, или угодником божьим.
* * *Когда Чистяков и Долива вошли в спальное помещение казармы, их встретила обстановка карстовой пещеры, которую облюбовало для проживания племя неандертальцев. Скорые осенние сумерки занавесили плотными «шторами» пыльные стёкла оконных проёмов. Не без труда пробравшись между в беспорядке сдвинутых железных остовов кроватей, новоявленные данайцы наконец оказались в дальнем углу комнаты, в котором сбилась в кучу плохо различимая людская группа, разместившаяся, как смогла, вокруг импровизированного ночника, сотворённого из железной коробки из-под патронов и нескольких чадящих промасленных фитилей, едва освещавших хотя бы метр вокруг себя. Для воссоздания картины первобытного сообщества не хватало лишь свисавших с потолка мерцающих сталактитов с капающей водой и разбросанных на полу обглоданных костей оленей и бурых медведей.
– Это куда же вы пропали? Ждём, ждём, а вас нет, – из темноты просунулась угловатая фигура Шака. – Надо что-то решать.
Сгрузив с рук тяжёлую коробку, Филипп и Глеб принялись раздавать по кругу принесённую провизию. Они наугад совали в тянущиеся к ним измождённые руки: кому банку тушёнки, кому пачку галет, а кому пакет с картофельными чипсами.
– Да вы успокойтесь. Всем достанется, – увещевал голодных людей Долива, отталкивая руки тех, которые выпрашивали очередную добавку. – Детей, детей давайте сюда. Вот, держите мармелад и бутылки с апельсиновым соком, – он погладил по головке Колю и маленькую Машеньку, которой не было, наверное, и шести лет.
Наступила тишина, нарушаемая лишь шуршанием разворачиваемой бумаги и чавкающими звуками жующих челюстей.
– Вот и славно. Вначале надо накормить людей, а уж потом разговоры разговаривать, – Чистяков с облегчением перевёл дыхание. – Как Женя? – спросил он.
– Ничего. Даже пару раз открыла глаза и губами пошевелила. Должно быть, спросить что-то хотела, но мы не разобрали. Мы ей регулярно меняем примочки на лице и руках. Пока что жива, слава богу, – раздался в ответ незнакомый женский голос.
– Откуда харч, мужики? – Генка Шак обернул к Глебу своё довольное лицо. Он только что закончил выгребать со дна жестяной банки остатки жира с мясом и потому чувствовал себя весьма комфортно. В его глазах плавали отсветы от горящих фитилей и делали похожим на сказочного василиска, только что закончившего вечернюю трапезу.
– Вот об этом и поговорим, когда все будут готовы, – с расстановкой, нажимая на слова «об этом» и «готовы», промолвил Филипп. Он понимал, какая непростая задача стоит перед ним и как сложно будет сплотить всю эту группу людей, которые, возможно, ничего толком не знают и угнетены лишь осознанием своего бедственного положения. Откуда они, как и почему оказались в этом месте? И главное, на кого он может положиться, чтобы вдохнуть в этих горемык хотя бы призрачную надежду на выживание? Не кривя душой, он рассчитывал на своего напарника по охоте. А что вышло? Этот разговор в кладовой, набитой жизненно необходимыми продуктами, неприятно поразил его. Вроде с ним был не просто хороший знакомый, а даже друг, и вот – на тебе. Поплыл, о своей шкуре беспокоится. Эту логику эмчеэсовец принять не мог. Не его эта мораль, чужая, не так воспитан. Равнодушно отмахнуться от судьбы трёх десятков человек он не мог. И всё-таки заниматься назидательной работой и возвращать человека к норме поведения в сложившихся чрезвычайных условиях Чистяков также считал делом пропащим.
Надежда на практическую работу ради спасения своих жизней должна объединить всех. На этом полковник МЧС решил построить свой расчёт, а Долива с его опытом организатора ещё как ему может пригодиться. Он, разумеется, не собирается забывать, как его друг призывал пожертвовать всеми ради спасения собственных жизней, однако, несмотря на это, заставит самого себя считать, что Глеб просто оступился. Каждый имеет право на минутную слабость. Не так ли?
Переведя дыхания и убедившись в том, что ажиотаж, связанный с лихорадочным поеданием съестного, поутих, Филипп решил начать свою речь:
– Прошу вашего внимания, – возвысил он свой голос. – Уверен, что ни для кого нет секрета в том, в каком положении мы все оказались. Скажу прямо – оно незавидное, если не сказать больше – плачевное, но такой вывод не повод для того, чтобы опускать руки. У нас есть шанс, которым мы должны воспользоваться. Вот об этом я хотел бы со всеми вами посоветоваться.
– Позвольте, Филипп Денисович, я хотел бы уточнить одну важную деталь, – из-за плотного круга собравшихся бочком протиснулся невзрачный сухонький человечек с птичьим лицом, на котором была мешковатая стёганая куртка с изодранными рукавами, взятая как будто с чужого плеча. Человечек пошмыгал длинным, как у бекаса, носом и представился: – Завадский Пантелеймон Андросович, преподаватель физики в технологическом колледже Нижнереченска. Был когда-то, по крайней мере.
…Действительно, раньше физик Завадский был учителем, сперва в средней школе, а потом перешёл в учебное заведение рангом повыше. Иногда, особенно когда выдавались свободные и тихие вечера, когда никуда не нужно было торопиться, а просто можно было остаться дома, приготовить ужин и выставить из холодильника на стол заветную поллитровочку, он мог и хотел быть с собой откровенным.
Только тогда в минуту расслабленности и душевного настроя бывший физик, всматриваясь в радужные переливы хрустальной рюмки, мог признаться самому себе в том, что преподавание не его конёк. Просто так сложилось по судьбе, которую он рассматривал сугубо как причудливую череду случайных фактов и событий, которые на исходе первого десятка лет профессиональной деятельности засунули его в никому не известный колледж и, похоже, навсегда.
Да, было когда-то время, полное романтики и мечтаний, но оно безвозвратно осталось далеко в прошлом, на истёртых студенческими джинсами скамьях Ульяновского авиационного института. Оказавшись под крышами громадных цехов самолёто – сборочного завода, Пантелеймон быстро понял, что это – не его высота. До уровня Мясищева и Новожилова ему было явно далеко. Работа же рядовым инженером-конструктором отделения планера его мало прельщала. Вначале появились вопросы к начальнику отдела: как, что и почему, – которые вскоре переросли в претензии и протесты: «Почему другому, такому же простому инженеру, а не мне, больше доверия; кстати, и ежеквартальная премия могла бы быть повыше; а где перспективы карьерного роста?» И, как следствие, смена одной профессии, а потом и другой, третьей и, наконец, непритязательное, но зато спокойное место учителя. Вернее – больше роль, чем должность. Для другого – свою работу любить надо.
Что ж, похоже, язвительность и разочарование в жизни – не самые привлекательные качества в мужчине, на которые слетаются эфирные существа противоположного пола. В итоге – одиночество, отсутствие семьи и нечастые встречи на дому с продавщицей отдела алкогольной продукции из ближайшего магазина. Отсюда незамысловатый вывод о том, что значительных вех на пройденном пути он не расставил. Событий мало, ярких красок на жизненном небосклоне явно немного.
Вспомнить почти нечего, за исключением недавнего случая, когда, находясь у родственников в дальней деревне в километрах 40 от Нижнереченска, он увидел на горизонте странное воздушное образование – встающее над землёй грибообразное облако. Открывшееся перед взором Завадского «завораживающее» зрелище быстро сменилось на сминающее сознание и мужество ужасом, который бросил его на землю, придавив необоримым ветровым потоком, который пронёсся над головой, оставляя за собой выкорчеванные деревья и раскиданные по брёвнышкам крестьянские дома.
Когда Завадский пришёл в себя, может через час, а вернее, через два или три, сказать он не мог, потому что банально бросился бежать, не зная куда и зачем он это делает. Спотыкался, падал, вставал и опять бежал, теряя счёт времени. Где и как провёл ночь – не помнил, то ли брёл, не разбирая дороги, то ли впал в забытьё? На следующий день вышел к заброшенной территории незнакомого военного объекта…
С ним случилось то, что вызывало вопросы, а задавать неудобные вопросы Пантелеймон Андросович умел:
– Вскоре мы вольём в себя столько рентген, что уже никакие лекарства нам не помогут, – безапелляционно заявил он. – Да и где взять эти чёртовы лекарства? Для нас их даже в теории не существует. Всё, что мы едим, пьём и чем дышим, напичкано радионуклидами, которые, осмелюсь заметить, обладают периодом полураспада в сотни, тысячи, а то и миллионы лет. Чем нам всем это грозит? Ответ ясен – неотвратимой и мучительнейшей смертью. Отсюда главный вопрос: от кого мы можем получить столь необходимую помощь? Гадать тоже не приходится – ни от кого и ниоткуда, потому что никого и ничего больше нет. Нет ни Нижнереченска, нет Урала, нет Сибири. Реки и озёра превратились в гибельные ловушки. Почему? Всё просто – разразилась ядерная война, и вся наша страна подверглась испепеляющему удару. Все согласны? А если нет, то почувствуйте, как вновь заходил пол под нашими ногами и земля гудит не переставая. Я всё сказал.
– У кого есть ещё мнения по этому вопросу? – Филипп был настойчив. Пусть говорят что хотят. Пусть вывернутся до конца, скажут о самом сокровенном. Ныне в каждой душе все чувства спеклись в ощущение бесконечной боли. После того как страх за свою собственную жизнь несколько притупился, вернулись мысли о судьбе близких.
Разве не у каждого есть теплое местечко в сердце для самых дорогих существ? Разве тот же Глеб Долива не думает: «Как они там, мои златокудрые дочки-погодки?» А вот у той женщины, у которой был пятилетний Сашенька, что остался на руках у бабушки? Выжили они или их уже нет?
И я, Филипп Чистяков, недавно ещё гордый своей силой и профессионализмом командир пожарных спасателей, разве не говорю себе: «Если бы знать, что с ней, ставшей сразу любимой Иришей, моей надеждой на совместную счастливую жизнь? Зря сказал ей намедни обидные слова, приревновав к этому разгильдяю Кириллу. А теперь что же, неужто всё исчезло и нельзя ничего повернуть вспять? Не будет больше встречи, чтобы взглянуть в её светлые глаза и сказать: „Прости дурака“».
Или вот та девушка, которая сидит и боится смотреть на меня, может быть, тоже говорит себе: «Я тоже хороша, всё откладывала день, чтобы навестить хворую мать, квартиру её прибрать, стёкла вымыть, обед приготовить, тихо и душевно посидеть за чашкой чая и вспомнить задорное детство, а потом поклониться той, что вырастила меня в одиночку, и расцеловать морщинистые щёки и руки. Ведь можно это было сделать, душу свою украсить. Так нет же, как же удержаться от призывов подмигивающего неоновым оком ночного клуба? Там, в искусственной дымке, под всполохами световой гаммы, нежась в звуковых волнах чарующей музыки, кружатся и порхают беззаботные существа. Там весёлые и смеющиеся „мальчики“ и „девочки“, там распахнуты ворота в лаковую „жизнь“, протекающую на подушках шикарных автомобилей и быстроходных яхт под знойным средиземноморским солнцем. Там открываются „перспективы“ в страну вечного праздника, щедро сдобренные марихуановым флёром».
– Говорите, говорите, друзья, – повторял как заведённый Чистяков.
– Вот я, вот я, – пробравшись почти по головам из-за спин сомкнувшихся в полукруг людей, шаром выкатилась к огню странная женщина, своими формами похожая на большую переспелую тыкву. Волосы её были растрёпаны и пучками торчали в разные стороны; лицо с подпрыгивающими щеками сплошь покрыто цементной пылью с проторенными слезами дорожками. – Глаша я, Глаша – санитарка из городской больницы. Там, в городе, сын мой единственный Петенька. Один он там, сердечный. В город мне надо, к сыночку моему. В школу ему идти, десятиклассник он у меня. Ва-а-а, ва-а-а, – в голос завыла безутешная женщина.
…Бесхитростной сложилась жизнь у Глафиры, точь-в-точь как и она сама. Медсестрой стать получилось, само собой. Не то чтобы стремилась к этому и совсем не мечтала об этом, а так, произвольно всё сложилось. Работа оказалась не хуже других, правда, зарплата – не ахти, отсюда и необходимость перейти на полторы ставки. Тяжело, конечно. Хуже всего ночные смены, но ничего – втянулась. Даже понравилось. Лица людей мелькают, как в калейдоскопе, – у каждого своя история. Послушаешь чужие судьбы, и у самой на душе как бы легче становится. Бывают такие признания – не приведи господь.
Кому «утку» подсунуть, кому таблетки разложить, и самой перепадет что-нибудь от болезных. Шли годы, росли авторитет и уважение. Глафирой Ивановной стала, но лучше Глашей, если ласково. Научилась находить участливое слово, внушать надежду, а то и приструнить буяна-самодура. Не отказывалась кому пролежни обработать, а кому лобок выбрить. Главврач ценить начал за незлобивый и ровный характер, за безотказность к просьбам, ну если подменить кого или внеурочно выйти на работу, да и лечащие врачи стали доверять ей проводить первичный сбор анамнеза.
А с местными алкашами и синяками – «наркошами» – справлялась за раз. Кого в холодную воду головой, кому внешний массаж сердца и по щекам наотмашь, чтобы в чувство привести. Остальное «скорая» доделает. Там же в «больничке» завела, вернее сделала, себе ребёночка. Присмотрела симпатичного мужичка на выписке. Глазки сощурила, халатик на пуговку пониже расстегнула – поплыл обалдевший от открывшейся возможности удачливый ухажёр: «Вот это больница так больница: не только подлечили, но и на дорожку знатный подарочек выправили».
Цепким женским умом понимала Глафира, что впереди не ждут её тихие радости и безоблачное семейное счастье. Что делать, статью не вышла. Даже на дециметровых каблуках за планку в 160 см не зацепилась. Пухлые бёдра от талии дугу выгибают; груди прокисшим арбузом на раздутый живот наползают, ну и лицо, соответственно, как масленичный блин. Само собой – не Шэрон Стоун, но на разовую поклёвку любители всегда найдутся. Только бы не проворонить, не опоздать, пока ещё цветёт скоротечный 20-й год. А уж с любовью она как-нибудь управится. Не мужику же залётному её дарить, а родную, желанную кровиночку она всего обцелует, оближет и вырастит. Так с годами и вытянулся её Петенька в статного красивого парня девкам на загляденье. Так где же он сейчас, с кем, жив ли?
Странные шутки выкидывает природа. Кому даст душу хрустальную, так непременно уродством каким наградит, а вот чтобы в сочетании, на зависть людям и на радость этому миру, так пойди поищи.
Двоих вещей только боялась Глафира Ивановна Селезнева: заведующего хирургическим отделением, доктора медицинских наук Амосова Кирилла Георгиевича и домового из больничного стационара, по слухам обитавшего где-то между третьим и четвёртым этажами.
Первый – хирург от бога, неулыбчивый сухопарый человек, окружённый очередями на год вперёд, признавал исключительно единственный вариант отношения к делу подчинённого ему медицинского персонала – рабское подчинение и способность понимать движения его бровей. И поэтому, следуя оригинальной интерпретации кодекса Гиппократа, Глаша каждый раз безропотно лезла под хирургический стол и сидела там часами с судном в руках – не мог, не имел права старый врач приостановить сложнейшую операцию по малой нужде.