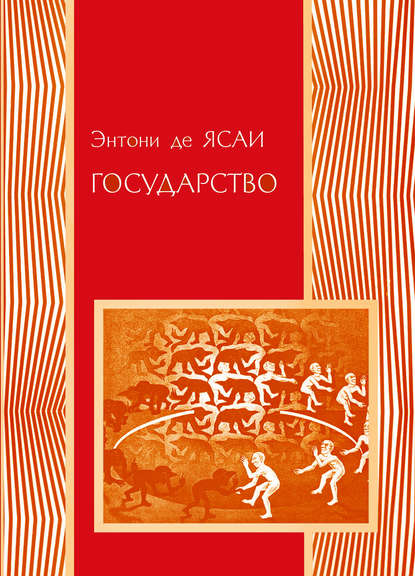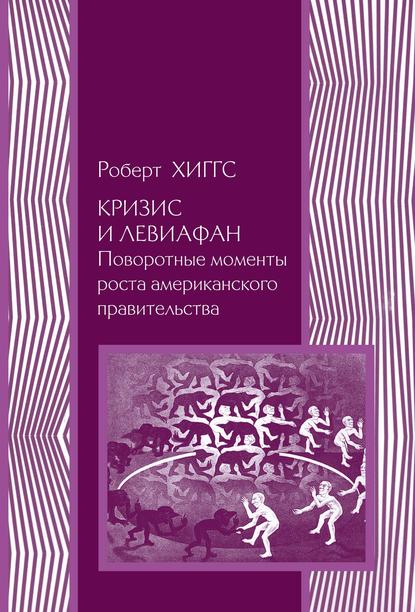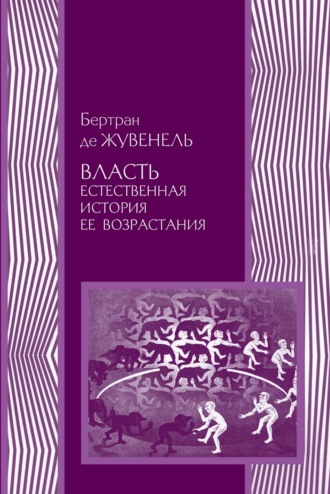
Полная версия
Власть. Естественная история ее возрастания

Бертран де Жувенель
Власть
Естественная история ее возрастания
© Hachette, 1972
© Hachette Litteratures, 1986
© АНО «ИРИСЭН», 2010
© В. П. Гайдамака, перевод, комментарии, 2010
© А. В. Матешук, перевод, вступительная статья, комментарии, 2010
От издателя
Публикация очередной книги в политической серии издательского проекта ИРИСЭН по-своему знаменательна: сочинение Бертрана де Жувенеля «Власть: Естественная история ее возрастания» выходит вслед за «Предательством интеллектуалов» Жюльена Бенда и представляет собой следующую веху в развитии европейской общественной мысли.
Если для Бенда решающим фактором его формирования как мыслителя была Первая мировая война, то для Жувенеля таким фактором стала Вторая мировая война. Главная книга Бенда увидела свет в 1927 г., когда Жувенель только делал свои первые шаги в качестве литератора, главная книга Жувенеля вышла в 1947 г. – на следующий год после выхода второго издания книги Бенда. Если, согласно Бенда, причиной катастрофы человечества стало предательство интеллектуалами вечных моральных и философских ценностей, то, по Жувенелю, причиной катастрофы еще более ужасной (предрекавшейся Бенда!) стали бессилие и безнравственность власти. Жувенель, разумеется, был представителем тех самых интеллектуалов (уже следующего их поколения), которых увещевал Бенда, обвиняя их в приверженности к политическим страстям. Но по сути эти мыслители демонстрируют два разных подхода к осмыслению глобальных катастрофических общественных потрясений.
И в этом смысле книга Бертрана де Жувенеля может принести нам сегодня неоценимую пользу. Как никогда раньше, актуален теперь разговор о власти, о ее взаимоотношении с обществом и ответственности перед ним. Жувенель точно подметил факт все большего разрастания и усиления политической власти, даже в демократических государствах. В ходе своего исследования он показывает, как этому способствуют различные теории власти и как влияют на реальную политику правительств сложившиеся в общественной науке стереотипы, зачастую неверные по сути. В результате, как показывает Жувенель, теории, задумывавшиеся для обоснования свободы и защиты от власти, становились и продолжают становиться почвой для разрастания последней.
Автор заставляет нас задуматься над тем, что же такое демократия, и является ли она лучшим общественным устройством, какова роль революций в становлении власти, оправдываются ли злоупотребления власти теми услугами, которые она оказывает обществу, не является ли суверенитет народа в конечном счете губительным для личных свобод граждан, возможно ли усовершенствование власти и т. д.
Сегодня невооруженным глазом заметен все увеличивающийся разрыв между громадным ростом средств власти и ослаблением контроля за их использованием. Говоря словами Жувенеля, «наступила эпоха скорее высоких башен, чем форумов», а значит опять возможно воспроизведение «революционной ситуации» со всеми вытекающими из нее трагическими последствиями.
Надеемся, что книга французского мыслителя привлечет широкий круг читателей, интересующихся проблемами общественного развития и серьезно задумывающихся над возможными путями их решения.
Валентин ЗАВАДНИКОВ
Октябрь 2010 г.
Парадоксы Бертрана де Жувенеля
Полное имя Бертрана де Жувенеля (1903–1987) – Бертран де Жувенель дез Юрсен: мыслитель происходил из знатного рода, имеющего особые заслуги перед французской монархией, и, может быть, то, что монархии он отдавал явное предпочтение перед другими видами Власти, не является случайным. Будущий ученый получил хорошее гуманитарное образование и начинал как журналист, выступая со статьями по экономическим вопросам. Первую свою книгу «L’Économy dirigée. Le programme de la nouvelle génération» («Управляемая экономика: программа нового поколения») он опубликовал в 1928 г. Затем, в 1933 г., вышла его книга «La crise du capitalisme américan» («Кризис американского капитализма»). Кроме того в молодости Жувенель принимал активное участие в политической жизни Франции. Однако накануне войны он отказался от политики и в дальнейшем полностью посвятил себя научной и литературной деятельности, став автором 37-ми книг.
Жувенель был экономистом[1], социологом и футурологом. Его книга «L’Art de la conjecture» («Искусство предвидения»), вышедшая в 1964 г., – важный этап в становлении футурологии как области знаний: автор представил в ней систематическое философское обоснование методов прогнозирования социальных процессов. В 1967–1974 гг. Жувенель был председателем французского футурологического общества, а в 1973 г. стал президентом-основателем Всемирной федерации исследований будущего. Он являлся также членом Римского клуба – международного сообщества ученых, общественных деятелей и бизнесменов. Научные и публицистические труды Жувенеля посвящены главным образом проблемам будущности социально-экономического развития. Мыслитель считает, что здесь перед людьми открыты замечательные перспективы, если только не строить ненужных иллюзий и не поддаваться неверным теориям.
Предлагаемый читателю труд французского ученого можно считать главным и самым известным из его сочинений. Замысел его созрел под влиянием напряженных событий, предшествовавших Второй мировой войне, а его создание происходило в драматических обстоятельствах этой войны. По словам самого автора, книга была начата в оккупированной Франции, но, чтобы продолжить работу, он в 1943 г. был вынужден нелегально покинуть страну и перебрался в Швейцарию, где книга и была опубликована в Женеве в 1945 г.
Исследование Жувенеля посвящено анализу феномена Власти, главным образом – выяснению причин его возникновения и постоянного затем существования. Сам автор характеризует книгу как «полемическую во всех отношениях». С этим нельзя не согласиться: Жувенель полемизирует со многими известными социальными теориями, находя так или иначе неудовлетворительными их представления о сути Власти и перспективах ее возможного совершенствования. Мы бы еще добавили, что это книга – парадоксальная, ибо автор показывает в ней парадоксальность почти всех основных идей, которые признаны в науке об обществе в качестве очевидных.
Поначалу кажется, что точка зрения автора одинаково далека как от чисто психологического, так и от чисто экономического подходов к проблеме. Жувенель считает, что власть не возникает в результате возникновения общества, как не возникает она и одновременно с ним. Напротив, Власть по отношению к обществу первична, именно она его формирует, и до ее возникновения всякая человеческая совокупность являет собой лишь некий агрегат, в лучшем случае сообщество, но не единое целое. Поэтому власть в принципе не есть проявление, или выражение, нации либо чьей-либо воли – Бога, партии или народа.
Здесь уместно остановиться на термине «Власть» в сочинении Жувенеля. Во французском языке этому понятию соответствует ряд синонимов – pouvoir, puissance, autorité, empire, а также commandement, domination, maîtrise, souverainté, – которые автор активно использует и которые мы, исходя из контекста, переводим соответственно как «власть», «повелевание», «господство», «влияние», «могущество», «владычество», «сила», «мощь», «верховная власть» и пр. «Властью» же с большой буквы, «Pouvoir», у автора называется именно политическая власть.
Путь возникновения Власти, согласно Жувенелю, один – завоевание, о чем, как он считает, свидетельствует вся социальная история. Причиной же существования Власти является… стремление к повелеванию, которое глубоко свойственно человеческой природе; именно повелевание и составляет суть Власти. Таким образом, мыслитель все-таки оказывается на психологической позиции, которая, как всякий односторонний подход, уязвима. Тем не менее именно этот подход, а вернее последовательность, с которой автор его держится, позволяет ему высказывать на первый взгляд парадоксальные, но по сути весьма глубокие мысли и убедительно опровергать общепризнанные мнения. Так, Жувенель не согласен с тем, что лучшая Власть – это Власть демократическая, а худшая – монархическая, что высшим достижением политической науки является идея о том, что народ есть суверен и что принцип верховной Власти народа – самый справедливый, что революции осуществляются ради достижения социальных целей и свободы и что возможна идеальная Власть, имеющая в виду лишь общественное благо, что суеверие служит опорой абсолютизму, что римский народ на своих общих собраниях обсуждал и принимал законы, что право большинства действует только при демократии, и т. д., и т. д.
Прежде всего Жувенель уверен, что Власти всегда был и всегда будет присущ эгоистический элемент, и притязания на создание абсолютно благой Власти наивны и несостоятельны; иными словами, Власть эгоистична по своей сути, и сделать ее по сути социальной невозможно. Но философ далек от того, чтобы ограничиваться простой констатацией этого факта, а тем более видеть в нем повод для пессимизма. Вовсе нет. Свою задачу он видит в том, чтобы, «рассуждая логически», показать, как Власть, воодушевленная изначально одним только эгоизмом, являясь чистым могуществом и чистой эксплуатацией, неизбежно приходит к тому, чтобы отстаивать общие интересы и преследовать социальные цели. В ходе длительного своего существования Власть «социализируется». И наоборот, она должна «социализироваться», чтобы существовать как можно дольше. В этом своем рассуждении Жувенель заходит довольно далеко: поскольку, говорит он, человеческой природе свойственно, чтобы привычка порождала привязанность, то Власть сначала действует побуждаемая собственными интересами, «затем – с любовью, а потом, наконец, посредством любви»[2].
Пожалуй, одной из наиболее ярких по своей парадоксальности является у Жувенеля трактовка демократии. Это только видимость, заявляет он, что при демократии Власть становится наименее эгоистичной и в наибольшей степени противостоит тирании.
Напротив, согласно Жувенелю, демократия является «инкубационным периодом» тирании. Именно при демократии утверждается всеобщая воинская повинность, а монополия образования уже с детства подготавливает умы к повиновению. Даже полицейская власть – самый невыносимый институт тирании – выросла под сенью демократии. Демократия придала Власти облик внешнего простодушия, под которым та обрела невиданный размах. И именно при демократии, когда народ полностью доверяется Власти, Власть получает возможность полностью использовать подвластных в своих целях и, что самое ужасное, в целях войны, которая, таким образом, именно благодаря демократии становится тотальной. Как замечает автор, «когда мы отказываемся от большей части себя в пользу государства, мы рискуем… вскормить будущую войну»[3]. С этим можно поспорить, но в логике данному рассуждению не откажешь: Власть всего народа и в самом деле требует, чтобы ее защищал весь народ.
Жувенель убежен, что при любой форме правления сутью Власти неизменно остается повелевание. Новые претенденты на Власть почти всегда в качестве своей цели декларируют общественное благо. Однако, захватив Власть – это «машинное отделение» государственного управления, – они неизбежно начинают стремиться к удовлетворению собственных амбиций и материальных интересов. Поэтому даже если они начинают с решительного уничтожения старого «машинного отделения», со временем обнаруживается, что «побеждает более простая идея сохранения прежнего аппарата», хорошо приспособленного к осуществлению повелевания. При демократии у Власти в этом смысле шансы наилучшие: поскольку каждый член общества имеет здесь (теоретически) возможность воспользоваться в свою очередь правом на повелевание, никто не склонен к уничтожению инструментов Власти, которыми надеется однажды попользоваться сам.
По Жувенелю, речь, в сущности, всегда идет о сохранении монархического аппарата, поскольку, по его мнению, этот аппарат является наиболее совершенным и в период буржуазных революций в нем только «физическая личность короля заменяется духовной личностью Нации»[4]. Этот государственный аппарат невозможно просто так сломать, подтверждение чему, как мы полагаем, автор усматривал в истории самой Франции, где до сих действуют Кодекс самодержавного императора Наполеона и созданные им государственные учреждения. Тем не менее Жувенель далек от идеализирования монархии, считая, что она подвержена слабостям, как и любая другая форма Власти.
Когда в 1974 г. Жувенель готовил второе издание своей книги, он мог с полным правом считать, что за время, прошедшее после выхода – почти 30 лет – первого издания, историческая действительность лишь подтвердила его теорию. Тогда импульс к написанию книги ему дали бездействие и бессилие Власти, которые в обстановке кризиса экономики и безработицы оборачивались социальным злом. Теперь, уже в других исторических обстоятельствах, Власть вновь демонстрировала свою несостоятельность перед лицом революционного возмущения народа.
Середина 60-х – золотые годы правления де Голля. Президент успешно играл роль всенародно избранного монарха. Он привел в порядок послевоенную французскую экономику и уверенно занимался внешней политикой, утверждая «величие Франции». К этому времени во всех западных странах самое широкое распространение получила тэйлоровская «научная система» организации производства, и благодаря этому утвердилось мнение, будто недовольство рабочих – дело прошлого и забастовки в качестве средства борьбы себя исчерпали. Кризис 68–69 годов был шоком. Де Голль не мог не только справиться с кризисом, но даже понять его природу.
Жувенель конкретно не останавливается на этих событиях, но с горечью признает, что книга его до сих пор не теряет своей актуальности. К началу 70-х годов XX в. люди не освободились от своих иллюзий в отношении Власти, а Власть не извлекла никаких уроков из истории. Хотя прогресс социальной жизни налицо – она совершенствуется и общественные цели достигаются во все более полной мере, – автора тревожит тот факт, что при все большем росте средств власти контроль за их использованием ослабляется.
Решение проблемы он видит в утверждении объективного подхода к феномену Власти: исходя из понимания, что власть «всегда ищет лишь собственного могущества; но путь к могуществу пролегает через служение»[5], надо отбросить политические и метафизические мечтания и взять по контроль средства Власти.
Но не является этот подход очередной иллюзией?
А. Матешук
Предисловие
Это книга полемическая во всех отношениях.
Она была задумана в оккупированной Франции, я начал писать ее под сенью монастыря де ла Пьерки-Вир, и тетрадь, содержавшая текст, составляла наш единственный багаж, когда мы пешком перешли швейцарскую границу в сентябре 1943 г. Великодушное швейцарское гостеприимство позволило нам продолжить работу над книгой, которая была опубликована в Женеве в марте 1945 г. стараниями Констана Буркена.
Но эта полемическая книга в одном отношении особенно важна: она возникла из размышлений о движении истории к тотальной войне. Я наметил эту тему в моей первой статье – «О политическом соперничестве» («De la concurrence politique»), которую Робер де Траз вывез из Франции и опубликовал в январе 1943 г. в своем «Revue Suisse Contemporaine». Из этого короткого эссе (сохраненного как глава VIII) и возникла эта книга. Именно из него читатель поймет причину гнева, который воодушевил автора на создание этого сочинения и обеспечил ему успех и которым объясняется некоторая резкость авторских суждений.
Гнев был вызван разочарованием. Глядя на общество открытыми глазами, я отчетливо увидел, что происходящие перемены требовали в интеллектуальном плане их осознания и предвидения будущего, а в практическом – неослабного действия, там – исправляющего, тут – побудительного, а в целом – ориентирующего. Следовательно, необходима была энергичная Власть. И уж тем более это стало необходимым, когда из-за бездеятельности правительств разразился скандал безработицы!
Но в это время Власть приняла ужасный вид и всеми силами, переданными ей в интересах блага, вершила зло! Как же могло не потрясти мою душу это зрелище?
Мне показалось, что причина катастрофы была в социальном доверии к Власти: с одной стороны, оно постепенно обеспечивало создание богатого арсенала ее материальных и моральных средств, а с другой – оставляло свободным вход в этот арсенал и еще более свободным – его использование!
Именно это заставило меня обратить в моей книге внимание на всех тех, кто стремился ограничить Власть, хотя эти люди не всегда следовали социальной мудрости, а часто руководствовались корыстным интересом.
В конце концов проблема со всей очевидностью возникла после столь губительного эксперимента. О ней, однако, почти не говорили – гораздо меньше, чем после наполеоновской авантюры.
Может быть, потому, что казалось, будто столь немыслимое зло должно тем самым остаться единичным? Допустим. Тогда давайте радоваться великому прогрессу, совершившемуся с начала войны в социальных службах. Но не будем закрывать глаза на все более увеличивающийся и вызывающий тревогу разрыв между громадным ростом средств Власти и ослаблением контроля за их использованием – и это даже при основной, демократической, власти.
Сосредоточение власти, усиление монархического характера повелевания, тайна важных решений – разве все это не заставляет задуматься? В не меньшей степени интеграция осуществляется и в области экономики. Наступила эпоха скорее высоких башен, чем форумов.
Вот почему эта книга, серьезные недостатки которой мне известны, остается, быть может, своевременной. Как бы мне хотелось, чтобы она не была таковой!
Январь 1972 г. Бертран де Жувенель
Laborem extulisti Helena ut confovente dilectione hoc evigilaretur opus dum evertuntur funditus gentes*
Явление Минотавра
Мы пережили самую жестокую и самую разрушительную из войн, какие до сих пор знал Запад. Самую разрушительную – поскольку в ней использовались громадные средства. Были не только поставлены под ружье армии в десять, пятнадцать, двадцать миллионов человек, но и все население в тылу оказалось мобилизованным в порядке трудовой повинности, чтобы снабжать эти армии самыми эффективными орудиями смерти. Все, что страна отнимала у живых, служило войне, и труд, поддерживающий жизнь, рассматривался – и допускался – только как необходимая опора гигантской военной машины, которой стал весь народ[6].
Поскольку все – и рабочий, и крестьянин, и женщина – способствуют борьбе, постольку всë – и завод, и поле, и дом – стало мишенью; воспринимая всë – и человеческую плоть, и землю – в качестве врага, противник стремился к полному его уничтожению посредством авиации.
Ни такое поголовное участие народов в войне, ни столь варварские разрушения не были бы возможны без изменения самих людей под влиянием единодушно воспринятых ими грубых страстей, которые позволили привести к полному извращению их естественных действий. Вызывать и поддерживать эти страсти было делом той военной машины, которая определяла использование и всех других страстей, – Пропаганды. Жестокость событий она подкрепила жестокостью суждений.
Самое поразительное, что этот спектакль, который мы сами самим себе представляем, так мало нас удивляет.
Ближайшее объяснение
Тот факт, что в Англии и в Соединенных Штатах, где не было никакой воинской повинности и где личные права были священны, весь народ стал простым человеческим потенциалом, распределяемым и используемым Властью таким образом, чтобы производить максимум полезного военного усилия[7], легко объясняется. Как можно было сопротивляться гегемонистским притязаниям Германии, привлекая лишь часть национальных сил, в то время как та использовала все свои силы? Судьба Франции, которая попыталась поступить подобным образом[8], стала уроком для Великобритании и Соединенных Штатов. В Великобритании дело дошло до призыва на военную службу женщин.
В целях более умелого манипулирования своими войсками противник мобилизует даже мысли и чувства людей, и чтобы не оказаться в невыгодном положении, следует подражать ему и в этом. Таким образом, миметизм поединка приводит к тому, что нации, ведущие борьбу с тоталитаризмом, с ним сближаются.
Полная милитаризация обществ является, стало быть, делом Адольфа Гитлера, в Германии – непосредственно, в других странах – косвенно. И если у себя в стране он и осуществил эту милитаризацию, то только благодаря тому, что для обеспечения его воли к власти потребовалась по меньшей мере вся совокупность национальных ресурсов.
С этим объяснением не поспоришь. Но оно недостаточно глубоко. Европа видела до Гитлера и других честолюбцев. Почему же ни Наполеон, ни Фридрих II, ни Карл ХII не использовали полностью свои народы для войны? Только потому, что не могли этого сделать. С другой стороны, известны случаи, когда перед лицом опасного агрессора было желательно полное использование резервов национальных сил; достаточно упомянуть императоров XVI в., земли которых опустошал турок, – в своих необъятных владениях они, однако, никогда не могли собрать против него сколь-нибудь значительной по величине армии.
Следовательно, сами по себе ни воля честолюбца, ни необходимость защиты от нападения врага не объясняют, каким образом сегодня пускаются в ход столь громадные средства.
Но все дело в материальных и моральных рычагах, находящихся в распоряжении современных правительств. Именно власть этих правительств позволила произвести такую тотальную мобилизацию в целях как нападения, так и защиты.
Прогресс войны
Война не является и никогда не являлась с необходимостью такой, какой мы видим ее сегодня.
В эпоху Наполеона в нее вовлекались мужчины призывного возраста – но не все, – и Император обычно призывал лишь половину контингента. Все остальное население могло вести свое обычное существование, и от него требовались лишь умеренные денежные налоги.
Во времена Людовика XIV войне нужно было еще меньше: военная повинность была неизвестна, и частное лицо жило вне военного конфликта.
Если, таким образом, вовсе не неизбежно, чтобы в случае войны общество участвовало в ней всеми своими членами и всеми своими силами, станем ли мы утверждать, что событие, свидетелями и жертвами которого мы являемся сегодня, случайно?
Конечно же, нет; ведь если расположить в хронологическом порядке вóйны, которые раздирали наш западный мир в течение почти тысячелетия, то с поразительной ясностью обнаруживается, что от одной войны к другой коэффициент участия общества в конфликте все время возрастал и что наша Тотальная война есть не что иное, как завершение непрерывного движения к своему логическому концу безостановочного прогресса войны.
Следовательно, объяснение нашего несчастья надо искать не в нынешнем положении дел, а в истории.
Какая постоянно действующая причина всегда придавала войне больший размах (под размахом войны я имею в виду здесь и буду иметь в виду в дальнейшем более или менее полное поглощение войной общественных сил)?
Ответ дают сами факты.
Короли в поисках армий
Как только мы возвращаемся назад, в эпоху XI–XII вв., когда начинают формироваться первые из современных государств, нас сразу поражает тот факт, что во времена, представляющиеся столь воинственными, армии были крайне малы, а кампании непродолжительны.
Король имеет в своем распоряжении солдат, которых ему приводят его вассалы, но эти солдаты обязаны ему служить только в течение сорока дней. В районе военных действий король находит местное ополчение, но оно не годится для войны[9] и следует за ним лишь два-три дня похода.
Как с такой армией решиться на крупные военные действия? Королю нужны дисциплинированные войска, которые будут следовать за ним более долгое время; но тогда он должен им платить.
Чем же ему им платить, если у него нет иных средств, кроме доходов с его собственных владений? Совершенно недопустимо, чтобы король мог поднять налоги[10]; главный способ для него получить денежные средства – это добиться от церкви (если та одобряет поход) предоставления в его распоряжение в течение нескольких лет церковной десятины. Но даже при наличии этих ресурсов еще и в конце XIII в. арагонский Крестовый поход, длившийся сто пятьдесят три дня, предстанет как чудовищное предприятие и надолго ввергнет монархию в долги.
Война в ту пору является весьма незначительной потому, что незначительна Власть, которая отнюдь не располагает двумя такими важными рычагами, как военная повинность и право облагать налогом.
Но Власть изо всех сил стремится к своему возрастанию, короли стараются добиться того, чтобы, с одной стороны, духовенство и, с другой, – сеньоры и городские общины все чаще оказывали им финансовую поддержку. При английских королях Эдуарде I и Эдуарде III и французских королях Филиппе Красивом и Филиппе Валуа эта тенденция продолжает развиваться. До нас дошли расчеты для кампании в Гаскони советников Карла IV, который требовал пять тысяч всадников и двадцать тысяч пехотинцев, всех на денежном содержании (soldés) – всех «солдат»* на пять месяцев. Другой документ, составленный позже лет на двенадцать, предусматривает для четырехмесячной кампании во Фландрии десять тысяч всадников и сорок тысяч пехоты.