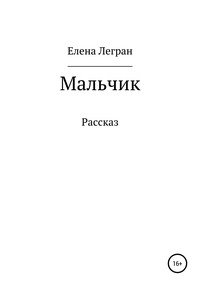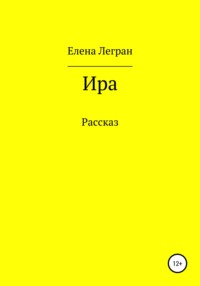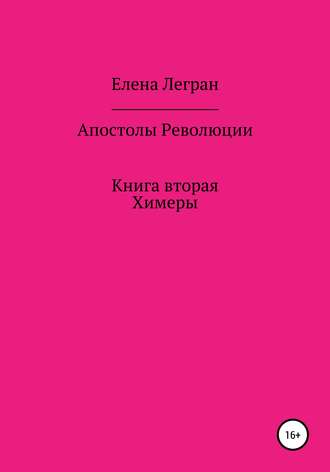
Полная версия
Апостолы Революции. Книга вторая. Химеры
– Рано еще, – резко возразил Сен-Жюст. – Мы не сделали и половины того, что можем, что должны сделать. Имеет ли право удовлетвориться меньшим тот, кто может достигнуть большего?
– Где же конец, Антуан? – обернулся к другу Лежен и снова остановился. Они как раз подошли к Национальному мосту. – Когда прекратится террор? Когда прекратится погоня за химерами?
– За химерами, говоришь? – ухмыльнулся Сен-Жюст. – По-твоему, республика – это химера? Благоденствие, процветание, свобода, счастье народа – химеры?! Отечество, любимое гражданами до самозабвения, – тоже химера?! Нет, друг мой, это реальность, это наше будущее! Но для того, чтобы построить его, мы должны искоренить гидру преступления, окутавшую Францию своими щупальцами. Предательство, шпионаж, коррупция, спекуляция, дезертирство – никогда еще преступление не пользовалось таким простором и такой свободой, как во времена перемен, социальных потрясений, больших опасностей. Если мы не уничтожим преступление, преступление уничтожит все, что мы успели построить. Или то, что мы построили, – тоже химера, Огюстен?
Вопросы, которыми сыпал Сен-Жюст, больше походили на обвинения. Он впился в Лежена жесткими холодными глазами. Казалось, если бы он мог убить взглядом, он, не задумываясь, сделал бы это.
– Разве террор в состоянии искоренить эти болезни? – просто спросил Лежен, опустив голову. – Они неизлечимы, как проказа, и неизбежно будут разъедать человечество изнутри.
– Террор является быстрым решением многих проблем. Ты даже не представляешь, насколько эффективным он может быть. Я неоднократно убеждался в этом. Хотя, – Сен-Жюст вздохнул, – когда его слишком много, к нему привыкаешь – и перестаешь испытывать страх. Как найти золотую середину? Как показать неотвратимость возмездия и в то же время не превратить его в рутину? За этим-то ты мне и нужен, Огюстен, – он ободряюще хлопнул друга по плечу.
– Вы не те преступления караете. Я много думал над тем, что ты рассказал мне о злоупотреблениях Амара, его играх с человеческой жизнью и торговле свободой. Почему он до сих пор не в Трибунале, Антуан? Где твоя карающая десница, которая опустилась на Эро де Сешеля, на Дантона, на Демулена? Почему ты не разоблачишь Амара перед Комитетами и Конвентом, как разоблачил эбертистов и дантонистов? Ты разглагольствуешь о мече правосудия и об искоренении заразы с тела общества, а на болезнь, коренящуюся в самом сердце государства, закрываешь глаза!
– Если бы я закрывал глаза на преступления Амара и других членов Комитетов, мы с тобой сейчас не разговаривали бы, я не создал бы Бюро полиции и не поручил бы тебе управлять им. Ты обвинял меня в спешке, и вот доказательство моей осторожности и моего терпения. Сейчас не время наносить удар по членам Комитета безопасности, особенно по такому влиятельному, как Амар. Сперва надо ослабить Комитет, лишить его возможности защищаться, контратаковать, нападать и только потом раздавить его членов – всех вместе или поодиночке. И начать стоит с головы, Огюстен. Надо отсечь эту голову, после чего тело погибнет, и мы разорвем его по кускам без особых усилий. Ты понимаешь, о чем я? – Сен-Жюст пристально взглянул на бледного Лежена и, улыбнувшись, кивнул: – Да, понимаешь.
– Вадье, – прошептал Лежен и зачем-то оглянулся, словно опасаясь, что их подслушивают.
– Верно, Вадье, – так же тихо повторил Сен-Жюст. – Вот моя главная цель, мой главный враг, враг коварный и опасный. Я знаю, как поразить его, но для этого необходимо время. Не могу сказать, сколько именно.
– Вадье так легко не сдастся, – покачал головой Лежен.
– Знаю. И готов к борьбе, которая началась с образования Бюро полиции. Пока я лидирую, – хохотнул он. – Пойдем, Огюстен, у нас много работы. Я почти не спал прошлой ночью. Не уверен, что продержусь без сна и нынешней.
Сен-Жюст быстро взбежал по мраморной лестнице, перешагивая через ступеньку. Лежен поднимался медленно, привычно прихрамывая, и вошел в комнаты на четвертом, последнем, этаже павильона Равенства, занимаемые Бюро общей полиции, в тот момент, когда Сен-Жюст, стоя в центре довольно просторного зала (бывшей гостиной?), объяснял окружившим его служащим их обязанности.
Обернувшись к вошедшему, он показал на него рукой и представил:
– Гражданин Лежен, шеф Бюро и ваш непосредственный начальник.
Несколько десятков пар глаз уставились на Огюстена. Не привыкший к такому вниманию, он почувствовал, что краснеет.
– Позже познакомитесь поближе, – спас его Сен-Жюст, снова привлекая внимание к себе.
Он говорил о цели создания Бюро и об ответственности, которая ложится на его членов в связи с важностью миссии, которую Бюро призвано выполнять. Лежен, стоя в стороне, смог спокойно оглядеть своих подчиненных. Все молоды, даже очень молоды. Старшему, должно быть, не больше тридцати. Все хорошо одеты, некоторые даже щегольски. По всему видно, Сен-Жюст лично подбирал каждого из них. Узнал он и посыльного, дважды являвшегося к нему сегодня. Тот стоял, сохраняя на лице все то же высокомерное выражение, но, встретившись взглядом с шефом, с которым обошелся так непочтительно, поспешно отвернулся.
«С этим придется туго», – мелькнуло в голове Лежена.
Тем временем Сен-Жюст подошел к главному.
– Мне нужна четкая классификация каждого дела, – говорил он. – Имя, возраст, происхождение, состав преступления, откуда доставлен. Я уже отдал распоряжение, чтобы доносы, поступающие в Комитет общественного спасения, незамедлительно направлялись в Бюро полиции. Сюда же будут стекаться дела из департаментов. Что до Комитета общей безопасности… – он замялся, но лишь на короткое мгновение. – На данный момент они там сами будут разбираться со своими доносами, но скоро и их дела перейдут в Бюро. – При этих словах Лежен еле заметно усмехнулся. – Каждое досье, – продолжал Сен-Жюст, – должно быть классифицировано на основании этих сведений по трем категориям: спекулянт, роялист, аристократ. Опираясь на вашу классификацию, я или другой член Комитета общественного спасения, если меня не окажется на месте, – тут Лежен нахмурился, – будем выносить решение и отправлять досье либо на дополнительное расследование в Комитет общей безопасности, либо непосредственно в Революционный трибунал. Все ясно?
– Не совсем, гражданин, – возвысил голос молодой человек, сидевший прямо напротив Сен-Жюста.
Все взгляды – удивленные и настороженные – устремились на него. Сен-Жюст сдвинул брови и слегка кивнул молодому человеку, призывая его продолжать.
– Ты говоришь, что в нашем распоряжении всего три слова, чтобы вынести суждение по делу, и это суждение станет для тебя основанием для окончательного вердикта, – проговорил смельчак, ничуть не тушуясь.
– Все так, – подтвердил Сен-Жюст.
– Как же нам быть, если дело выходит за рамки этих трех слов, которые сами по себе являются приговором? Как нам быть с теми, чья невиновность вопиюща, кто стал жертвой клеветы и заслуживает освобождения?
Повисла тяжелая пауза. Лежен улыбнулся, стараясь показать смельчаку, что он полностью поддерживает его возмущение и преисполнен радости работать вместе с этим честным и справедливым патриотом. Но тот не смотрел ни на кого вокруг. Его глаза были подняты на стоявшего перед ним депутата, на того, кто отдавал приказы и чьего ответа он ждал. Сен-Жюст молчал, и с каждой секундой его молчание становилось все более угрожающим. Чтобы положить этому конец, Лежен громко кашлянул – и сам удивился, как короткий, резкий звук эхом разнесся среди напряженной тишины. Сен-Жюст встряхнул головой и обернулся к другу.
– Тебе должны быть по душе слова твоего подчиненного, Лежен, – язвительно заметил он. – Вернее, бывшего подчиненного, – обернулся он к молодому человеку. – Еще декаду назад, гражданин, я не колеблясь отправил бы тебя в Трибунал как покровителя врагов республики, – он выдержал значительную паузу и продолжил: – И очень пожалел бы об этом полгода спустя. – Вздохи облегчения раздались со всех сторон. – Ты станешь прекрасным слугой республики, когда мы покончим с врагами внутри и вне страны. Но в положении, в котором сейчас находится отечество, твои идеи опасны для свободы.
– Сен-Жюст… – начал было молодой человек, но депутат жестом руки велел ему молчать.
– Твоя любовь к отечеству несомненна, – проговорил он, – иначе ты не был бы сейчас среди нас. Но я вижу, что ошибся, определив тебя в Бюро полиции. Здесь ты не можешь послужить Франции. Уверен, в армии твое рвение найдет лучшее применение. Я займусь твоим переводом сегодня же.
Смельчак опустил голову. Лежен, бледный от негодования, которое не в силах был сдержать, но и не находил в себе силы выпустить на свободу перед этими людьми, молчаливыми и робеющими или решительными и ревностными, сжал кулаки. Он должен что-то сделать, должен вступиться за смелого юношу или хотя бы отомстить за него!
– Ты не ответил на вопрос, Сен-Жюст, – его тихий, но твердый голос прозвучал непривычно громко среди тишины зала.
Сен-Жюст медленно повернул к нему голову, взглянул так, как смотрят на расшалившегося ребенка – строго, но снисходительно, и проговорил устало:
– Мой ответ прост, Лежен: досье, оказавшееся в Бюро полиции, не может касаться невиновного.
– То есть ты заранее обязуешь нас выносить смертные приговоры? – робко спросил еще один служащий, некрасивый, тощий человечек, со следами оспы на вытянутом лице. – Кто мы такие, чтобы брать на себя столь тяжкий груз? По какому праву ты наделяешь нас властью над жизнью и смертью?
– По праву, данному мне революционным правительством, которое одно смогло предотвратить катастрофу, на грани которой стояла республика меньше года назад, – отрезал Сен-Жюст. – Вы здесь не для того, чтобы заниматься благодеяниями, а чтобы защищать республику от гадины, жаждущей ее погибели.
– Почему бы нам не готовить более детальные отчеты по каждому делу? – раздался голос из дальнего угла. Лежен с интересом взглянул в сторону говорившего. – А ты на их основании будешь выносить решение. Это потребует от нас больше работы и времени, но зато вероятность совершить несправедливость уменьшится.
– А потому, Потье, – снисходительно ответил Сен-Жюст, ничуть не разозлившись, как ожидал Огюстен, – что читать ваши доклады и от меня потребует больше времени, а времени у меня как раз и нет. И у вас не будет, – пообещал он. – Похоже, вы не совсем представляете себе количество досье, с которым нам придется работать. Тысячи, десятки тысяч. Я достаточно ясно ответил на ваши вопросы? – он почему-то обернулся именно к Лежену. – Мы можем продолжать? Или кто-то еще желает выступить в защиту врагов народа?
Молчание было ответом на его вызов.
– Хорошо, – удовлетворенно проговорил Сен-Жюст. – Если общее направление ясно, займемся деталями.
«Деталями» они занимались до часу ночи, пока Лежен, освоившись с ролью начальника, не заявил, что время позднее и всем им необходим отдых.
– Добро пожаловать в Тюильри, Огюстен, – проговорил, спускаясь по лестнице, Сен-Жюст и взглянул на друга, потиравшего воспаленные от усталости глаза. – Тут ты без дела не останешься.
– И ты еще сетовал, что не продержишься допоздна после бессонной ночи! – покачал головой Лежен.
– Дело тренировки, друг мой. Привыкнешь. Здесь мы простимся, – Сен-Жюст остановился на площадке, ведущей в Зеленую комнату. – Я зайду в Комитет. Там и подкреплюсь заодно: Бийо, наверняка, послал за провизией в преддверии долгой ночи. Кстати, не стесняйся делать то же самое. Все текущие расходы оплачивает Комитет спасения. Завтра займемся твоим жалованьем.
На том они и расстались.
28 жерминаля II года республики (17 апреля 1794 г.)
Он заставил ее, заставил грубо, требовательно, применяя угрозы, напоминая о данной клятве, поймав в ловушку ее чувств и слов. Элеонора не хотела подчиняться, сперва умоляла, потом грозила и, наконец, призвав на помощь здравый смысл, убеждала. Но он победил. Его аргументы были сильнее, выкрики громче, слова выразительнее, ласки желаннее. И она сдалась. Сдалась настолько полно, что сейчас шла на улицу Комартен, будучи почти уверенной в том, что так и следовало поступить, что именно в этом было их спасение. Их? Разве дела Лузиньяка когда-либо касались ее? Разве сам он не заверял при каждой встрече, что не желает подвергать ее опасности и потому не посвящает в свои секреты? А вчера вдруг заявил, что этот камень, этот сверкающий всеми цветами радуги бриллиант размером с ноготь большого пальца – надежный гарант их безопасности, оружие против любого самого страшного обвинения, какое только может быть выдвинуто против одного из них. Вопрос Элеоноры, кто и в чем именно может их обвинить, утонул в новой тираде о козырной карте, которая окажется в их руках, как только камень будет спрятан в квартире Сен-Жюста. «Особняк Обер, улица Комартен», – уточнил Лузиньяк. Он хорошо подготовился: обзавелся новым адресом Сен-Жюста и до мельчайших деталей пересказал ей распорядок дня члена Комитета общественного спасения. «В шестом часу, можешь быть уверена, риск застать Сен-Жюста дома минимален», – заключил он. Но и после этого она сопротивлялась, говорила, что готова сделать для него все, что угодно, только не это, напоминала об опасности, о невозможности, о бесполезности затеи. «Ты поклялась, – отрезал он. – Помнишь? Когда просила прощения за предательство». Она помнила – и подчинилась.
В начале шестого вечера Элеонора подошла к особняку Обер. В отличие от скромного отеля «Соединенные Штаты», ворота которого были почти всегда открыты, массивные двери, ведущие во двор роскошного дома, некогда известного всему Парижу как обиталище знаменитого оратора Учредительного собрания графа Мирабо, были заперты. Она перехватила в левую руку небольшую корзинку, где среди свежего хлеба, сыра и колбасы, которыми она надеялась подкупить прислугу, покоился в маленьком кожаном мешочке бриллиант, призванный стать ее ангелом-хранителем (кажется, именно так выразился Лузиньяк, покидая утром ее особняк на острове Сен-Луи), и с силой трижды ударила по воротам круглой ручкой в виде цветочной гирлянды.
Топот грубых башмаков во дворе раздался почти незамедлительно. Перед ней возникло улыбающееся лицо того самого паренька, которого она уже видела за работой в отеле «Соединенные Штаты». Как же его звали? Впрочем, не он интересовал Элеонору. Если он здесь, значит и строгая девушка, его сестра, тоже. Вот прекрасная новость!
– Я пришла к гражданину Сен-Жюсту, – негромко проговорила Элеонора, чуть подавшись вперед.
– Его нет, приходи завтра утром.
Парень готов был уже толкнуть ворота, когда она призвала на помощь свою самую нежную улыбку и проговорила тоном заговорщицы:
– Он просил меня прийти сегодня. Сказал, что я должна подождать, если не застану его.
– Странно, – лицо парня приняло озабоченное выражение. – Он бы предупредил Виолетту…
Ах да, Виолетта, вот как зовут его сестру.
– Возможно, что и предупредил, – подсказала Элеонора и решительно шагнула вперед. – Пойду спрошу у нее.
Она огляделась. Двор был просторным и грязным. Слева от входа стояла на привязи пара лошадей. Запах их помета ударил в чувствительные ноздри гражданки Плесси. Она поспешно отвернулась и спросила у Жана:
– Так где я могу найти Виолетту?
– Мы занимаем две комнаты на первом этаже, вход прямо под лестницей, – махнул он рукой. – Я пойду спрошу…
– Нет-нет, – поспешно откликнулась Элеонора и даже позволила себе схватить его за руку. – Я сама, – и добавила, мягко улыбнувшись и отняв руку: – Спасибо, юноша.
– Постой! – закричал Жан, пристально вглядываясь в красивое почти идеальной красотой – той, что не позволяет ни одного изъяна – лицо. – Я знаю тебя! Ты уже приходила к гражданину Сен-Жюсту и разговаривала с Виолеттой.
– Все верно, – подтвердила Элеонора. – И вот пришла снова.
Жан понимающе кивнул и принял серьезно-благожелательный вид, признав в ней соратницу и единомышленницу.
Первая преграда успешно преодолена, похвалила она себя, входя в особняк и заглядывая под широкую мраморную лестницу, ведущую на верхние этажи, к жильцам. Действительно, за ней скрывалась небольшая дверца, поддавшаяся при первом же легком прикосновении. Элеонора оказалась в тесной прихожей, откуда расходились две небольшие комнаты. Из одной из них раздавалось тихое шуршание. В нее-то и вошла посетительница – да так и замерла на пороге.
Перед мольбертом вполоборота к ней стояла Виолетта в заляпанном разноцеветными мелками переднике. Справа от нее разместилась коробка с пастелью. Поглощенная работой, девушка не почувствовала постороннего присутствия. Ее правая рука медленно скользила по полотну, выводя невидимые гостье линии. Взгляд Виолетты был прикован к картине, губы слегка приоткрыты в счастливой улыбке. Точно такое же выражение Элеонора видела на искаженном увечьем лице великого Давида, когда он, захваченный творением, не замечал ничего вокруг и, казалось, пребывал в иных сферах, недоступных простым смертным. Элеонора перестала дышать, завороженная зрелищем: перед ней была художница. Она боялась пошевелиться, боялась тронуться с места, ибо малейшее движение могло разбить представшее ей видение.
Виолетта оторвала глаза от мольберта, заметила Элеонору и покраснела. Та ободряюще улыбнулась: мол, меня тебе нечего опасаться.
– Позволишь взглянуть? – осторожно спросила она.
Виолетта вытерла руки о передник и отступила на шаг, приглашая гостью занять место перед мольбертом. Элеонора, все с той же приветливой улыбкой, не отрывая глаз от юной художницы, подошла к картине. Но стоило ей повернуться к мольберту, как улыбка соскользнула с ее губ. С полотна, выписанные неуверенными, но правильными линиями, смотрели холодные серые глаза в обрамлении черных слегка вьющихся волос, спадавших на плечи. Прямая линия носа, точно такая же, как у оригинала, и еще только начинавшие выписываться губы, – это были, несомненно, его черты. Сен-Жюст, смотревший на нее с неоконченного портрета, выглядел старше того Сен-Жюста, что жил двумя этажами выше, но сходство с оригиналом было несомненно. Элеонора стояла у недописанной картины неприлично долго, не в силах оторвать глаз от этого пока еще эфемерного, но такого живого лица, созданного любящей рукой молоденькой девушки, которая – одному Богу известно, каким образом – смогла передать пренебрежительное высокомерие в мягких, даже нежных чертах молодого человека, пусть и несколько состаренного ее неопытной рукой. Виолетта молча косилась на гостью, будто старалась угадать ее мысли.
– Портрет прекрасен, – наконец, проговорила Элеонора, почему-то шепотом.
– В самом деле? – облегченно выдохнула художница. – Он не закончен, и я не знаю, смогу ли…
– У тебя дар, – перебила ее Элеонора, полностью отдавшись собственным мыслям и не слушая Виолетту, – настоящий дар. Откуда?
Она обращалась, скорее, к самой себе, но Виолетта сочла нужным объяснить:
– Мой отец неплохо рисовал. Он научил меня смешивать краски, объяснил пропорции, перспективу, а дальше… – она сделала неопределенный жест рукой.
– А дальше, – с улыбкой договорила Элеонора, – талант завершил дело. Ты могла бы зарабатывать этим, вместо того чтобы… – она спохватилась, боясь показаться бестактной и оскорбить девушку, но Виолетта совсем не обиделась.
– Э-э, не-ет, – покачала она головой, – пример отца, умершего в нищете, многому научил меня. Я должна была работать с ранних лет, иначе мы не выжили бы. Все это глупости, гражданка, – она небрежно махнула рукой в сторону картины. – Этим, – в ее тоне Элеонора уловила презрение, – не проживешь, если у тебя нет влиятельного учителя и ты не вышел из привилегированных.
– С привилегиями покончено, Виолетта, – возразила Элеонора. – Революция с ними покончила.
Но девушка лишь с сомнением покачала головой.
– Послушай, я знаю очень известного… – начала Элеонора и запнулась.
Что за безумие! Разве может простолюдинка, в виде которой она явилась в особняк Обер и в качестве которой разговаривала сейчас со служанкой, знать знаменитого Давида?! Замолчи, приказала себе Элеонора, не сейчас, потом, когда все это закончится.
– Гражданин Сен-Жюст видел твою работу? – спросила она, не желая оставлять паузу слишком долгой.
Девушка снова залилась румянцем.
– Нет-нет, конечно нет! – энергично запротестовала она, даже головой замотала.
– Хочешь сперва закончить? – понимающе улыбнулась Элеонора. – Это правильно.
– Будет лучше, если он не узнает… совсем не узнает… – запинаясь, сказала Виолетта. – Ты ведь не скажешь ему? – она заискивающе заглянула в глаза Элеоноры.
Та рассмеялась и по-матерински потрепала художницу по щеке.
– Боишься, что он прочитает в твоем сердце, глядя на портрет? – спросила она, но в вопросе звучало утверждение. – Думаешь, он ничего не замечает? Твои чувства написаны на твоем лице, милая, только плевать он хотел на чьи-либо чувства, в том числе и на свои собственные.
Виолетта стояла, опустив голову, теребя в руках край испачканного пастелью передника, и молчала. К чему были эти жестокие слова? Элеонора разозлилась сама на себя. Не лучше ли было оставить девушку в если не счастливом, то, по крайней мере, покойном неведении?
– Послушай, – Элеонора подняла голову Виолетты за подбородок. – Обещаю, что ни слова не скажу Сен-Жюсту о портрете, а ты взамен окажи мне небольшую услугу.
– Какую? – приободрилась Виолетта.
– Я принесла кое-какие документы… которые он попросил меня раздобыть… – она на ходу выдумывала предлог, поняв, что подкупом от Виолетты ничего не добьется.
– Ты можешь подождать его здесь, – с готовностью отозвалась девушка.
– Подождать?! – Элеонора, улыбнувшись, вскинула брови. – Сколько мне придется ждать: до поздней ночи или до завтрашнего утра?
– И то верно, – согласилась Виолетта. – Я не уверена, что он вообще возвращался домой прошлой ночью.
– Я могу оставить документы в его квартире, – подсказала Элеонора. – Пара минут, не больше.
Виолетта в нерешительности покусывала губы.
– Он будет доволен, обнаружив их по возвращении, – добавила Элеонора, видя ее колебание. – Ты окажешь услугу мне, а я – тебе, сохранив наш маленький секрет.
Девушка слегка кивнула и, взяв связку ключей, вышла из квартиры. Элеонора последовала за ней, сжимая корзинку в руке.
– Не задерживайся, – строго приказала Виолетта на правах хозяйки.
– Я мигом, – пообещала Элеонора, переступая порог квартиры члена правительства.
Контраст с апартаментами Сен-Жюста на улице Гайон поразил ее. Вместо спартанской обстановки первого жилища депутата перед Элеонорой предстала роскошная квартира, расходившаяся на две стороны из прихожей в светло-бежевых тонах. Налево дверь вела в столовую, которой, судя по царящему в ней идеальному порядку, пользовались нечасто. Направо анфилада из трех комнат включала большую гостиную в бледно-голубой, по последней моде, гамме, за которой следовал кабинет, служивший также библиотекой, и спальня, самая мрачная из всех комнат, обитая темно-зелеными тканевыми обоями, посреди которой возвышалась большая кровать с тяжелым зеленым балдахином. Маленькая дверь из спальни вела в гардеробную. И все же, несмотря на дорогую обстановку, квартира выглядела просто, даже скромно. Элеонора недоуменно оглядывалась, скользила взглядом по пустым стенам, задерживалась на креслах и диванах с позолоченными ручками, на комодах из дерева акации, на каминах из черного мрамора и огромных венецианских зеркалах над ними, на серебряных канделябрах, развешанных по стенам и расставленных на каминах. Она внимательно осматривала комнаты, ища причину странного ощущения простоты, что возникло у нее сразу же, как только она переступила порог квартиры. Ответ пришел к ней в кабинете, где чувство скромной пустоты вдруг покинуло ее. Казалось, это было единственное обитаемое пространство в квартире. Стол, хаотично заваленный бумагами, полупустая чернильница, початая бутылка бургундского, домашний халат, небрежно наброшенный на спинку стула, оплывшие свечи в канделябрах, книги в шкафах, кресло с лежащей на нем «Историей» Геродота, заложенной карандашом на том месте, где прервал чтение хозяин, – в этой комнате была жизнь, отсутствовавшая во всех остальных помещениях, лишенных ваз, картин и других бесполезных, но необходимых мелочей, что украшают и оживляют жилое пространство. Да и мебель, заключила гостья, явно осталась от прежнего хозяина.
Элеонора медленно переходила из комнаты в комнату и снова возвращалась в прихожую, размышляя, куда бы спрятать бриллиант в кожаном мешочке, который она сжимала в кулаке с того самого момента, как вошла в апартаменты. Лузиньяк настаивал на том, чтобы вместе с камнем в квартире депутата оказался и синий бархатный мешочек с золотыми лилиями, который Сен-Жюст любезно согласился оставить ей на память о любовнике. Но она решительно отказалась, заявив, что тогда Сен-Жюст непременно догадается, что камень оказался у него ее стараниями, и чтобы прекратить дальнейший спор, швырнула мешочек в горящий камин.