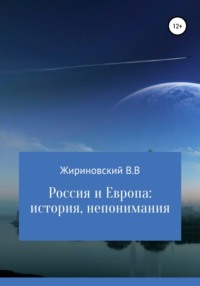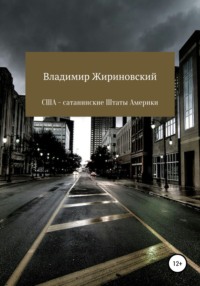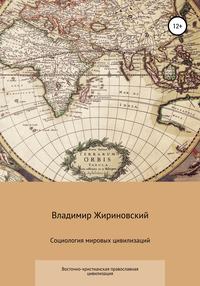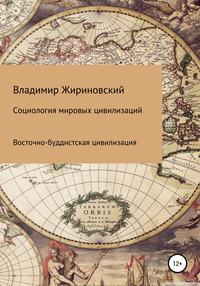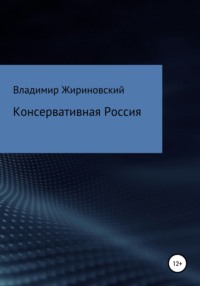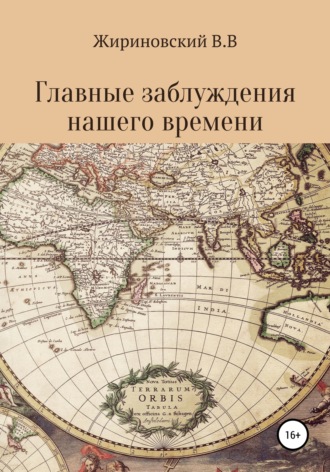 полная версия
полная версияГлавные заблуждения нашего времени
Пол Вулфовиц в 1992 году разработал программный документ «Руководство по оборонной политике», многие концептуальные положения которого начали активно претворяться в жизнь в годы президентства Барака Обамы. Ее суть в следующем:
США не должны допустить появления глобального противника;
для защиты своих национальных интересов допустимо и следует применять военную силу;
игнорировать деятельность ООН, поскольку она не отвечает американским интересам;
«не коалиция определяет миссию, а миссия определяет коалицию» – принцип, предлагающий не брать в расчет позицию даже союзников, которые обязаны следовать за США.
Сама идея «гуманитарных интервенций» является весьма противоречивой, пропитанной духом макиавеллизма и применением двойных стандартов. Авторитарные режимы, изобилующие массовыми примерами нарушения прав человека, при условии предоставления территории своих государств для базирования американских войск и открытия доступа к ресурсам объявляются вполне демократическими. А демократические, но отказывающиеся подчиняться американскому диктату, объявляются тоталитарными и нередко физически уничтожаются.
Глава 6
Глобализация и неолиберализм
По мнению египетского ученого Самира Амина, вирус либерализма появился в XVI веке в треугольнике с вершинами в Париже, Лондоне и Амстердаме и вызвал широкомасштабную эпидемию, приобретая форму социальной шизофрении. «Все это было придумано в Европе на протяжении трех столетий между Возрождением и Французской революцией». Придумано и навязано миру, приобретая черты якобы неотвратимой глобализации.
По мнению глобализаторов, капитализм и либерализм—это гарантия стабильности и процветания человечества. Однако это не так. Амин отмечает, что не следует путать рыночную и капиталистическую экономики. Рынок – это конкуренция, а капитализм – это границы конкуренции, устанавливаемые монополиями. Отмена регулирования рынков приводит к появлению нерегулируемых рынков либерализма, на деле регулируемых властью ТНК, находящихся за пределами рынка. Иными словами, «капитализм синонимичен постоянной нестабильности».
Вульгарный экономизм, неоднократно критикуемый Марксом, является, по замечанию С. Амина, теорией вымышленного мира. Экспансия капиталов абсолютно не содействует гармонизации социальной сферы, не подразумевает никакого общественного развития. Нет никакой занятости, покрытия разрыва между доходами.
Отсюда он делает вывод, сводящийся к тому, что капитал и государство неотделимы друг от друга, ибо само функционирование системы капитализма требует постоянного внимания и вмешательства государства, то есть госрегулирования. Сутью современной эпохи является, таким образом, продукт столкновения экспансии капитала и общественных сил, противостоящих его экспансии.
Очевидно и даже банально утверждение о том, что демократия – это возможность альтернативного выбора. Но глобальная экспансия либерализма неизбежно формирует убеждение, что альтернативы не существует. Либерализм объявлен принципом высшей рациональности, то есть устраняется сама возможность и необходимость выбора. А коли так, нет и необходимости в демократии. Устанавливается диктатура неолиберализма.
Глобализированный либерализм вовсе не путь к спасению человечества, вовсе не лекарство от всех болезней. В реальности западный проект, преемственно развивающийся на протяжении нескольких столетий, может сегодня предложить миру только усугубление неравенства между народами, тотальное обнищание, невозможность демократии.
Капитализм вовсе не тождествен либеральной демократии. В самой природе капитализма скрыт авторитарный потенциал. Современность утверждает приоритет индивидуальных прав над общественным правом. Пусть победит сильнейший. Закон социального дарвинизма в действии.
В этой оценке С. Амин близок к мыслям, изложенным Джоном Кампфнером в работе «Свобода на продажу», который пишет: «Существует пакт государства с гражданами. Эта тайная сделка направлена на то, чтобы всех осчастливить. Цена—спокойствие и тишина – не кажется столь высокой… Альтернатива? Попробуйте открыть рот, и вам вменят судебный иск, задавят налогами, сотрут в порошок. Играйте по правилам и будьте в порядке. Свободный выбор может привести к тому, что вы останетесь за бортом».
Капитализм заменяет традиционную прямую зависимость от власти. Ранее власть являлась источником богатства, ныне богатство – источник власти. Мы становимся очевидцами агонии и перерождения западной социально-экономической модели, глубокого кризиса англосаксонской неолиберальной экономической школы, ставшей причиной политического кризиса современного Запада.
Глобализация и неолиберализм. Суть взаимодействия
Глобализация призвана сформировать социально-экономические условия для завершения западного проекта—воплощения в жизнь концепции «нового мирового порядка», то есть создания международной классовой системы, в которой власть, опираясь на олигархов, принадлежит доллару, контролируется международными институтами СБ ООН, МВФ, Всемирным банком и многочисленными правовыми организациями.
После распада СССР эти организации в условиях однополярного мира заняли одностороннюю позицию, причисляя каждое государство, народ, лидера, действующих вопреки воле Запада, к фундаменталистам, террористам, а взгляды представителей научной элиты, выступающих против идеологии либерализма, были объявлены ненаучными. Очевидно, что РФ не субъект, а объект западного аксиологического (ценностного) проекта. Выжить, окрепнуть, сохранить себя Россия может только с помощью разработки контридеологии либерализму, вскрыв его деструктивную сущность.
Разве сегодня Запад, Восток, Север и Юг располагают равными правами в использовании средств массовой информации? В наше время часто говорят о «мировой деревне». Но кто является хозяином этой деревни? Все ли имеют право участвовать в управлении современным миром, или некоторые вынуждены существовать на правах граждан второго сорта? В мире доминируют двойные стандарты и право сильнейшего.
Основным инструментом глобализма становится виртуализация жизни, подмена реального виртуальными образами, то есть симулякром. Итогом такой манипуляции выступает исчезновение материальных, осязаемых благ и ресурсов, уход человечества в компьютерные облака. Так, переход на расчеты через безналичные счета на банковских картах позволяет мировой финансовой элите держать фактически под прицелом личные счета, доходы и расходы каждого индивидуума. Наличные объявлены архаикой, фактически поставлены вне закона. Ведь они делают человека относительно независимым. Глобалисты не заинтересованы в этом. Нужен тотальный контроль и прямая зависимость «глобального человейника» («Глобальный человейник» – фантастический роман-антиутопия писателя и философа Александра Зиновьева, вышедший в 1997 году. —Примеч. ред.) от ТНК.
Из производительной силы капитал перешел в сугубо «извлекательную». Западный проект фактически встал на экстенсивные рельсы, вынося производственную сферу за границы «цивилизованного мира» и экспортируя технологии и знания. В конечном счете западный проект потерял интерес к сохранению и развитию индустрии, трансформируясь в финансово-спекулятивную пирамиду.
Чистый или вульгарный экономизм глобализма определил и характер политической власти, опирающейся на идеологию неолиберализма. Глобальная модель Запада—это внетерриториальная пирамида, опирающаяся на денационализацию в самом широком понимании. Это и разрушение национальных суверенитетов, и денационализация капиталов.
Следует осознавать, что глобализм по своей природе антигосударствен, поскольку национальные правительства и национальные территориальные границы препятствуют разграблению и изъятию ресурсов. В силу этого глобализация как этап в развитии новейшей истории так тесно хронологически совпадает и переплетается с массовой вспышкой терроризма. Глобалисты готовы поддерживать любые антигосударственные силы вне зависимости от их природы и характера. «Арабская весна» 2010-2011 годов и события на Украине в феврале-октябре 2014 года тому яркое свидетельство.
Новая глобалистская этика зиждется на презрении к людям труда, обесценивании материального производства. Офисный планктон, умеющий «делать деньги», идет в авангарде глобализации, ибо материальное производство – дело отсталой периферии. Во главу угла поставлено потребление и потребитель. Любые моральные ограничения объявляются нарушением прав и свобод. Трудиться и работать в таком обществе попросту не модно и не престижно.
В неолиберальном сознании рожден специальный термин, заменяющий понятие Отечества, – «страна пребывания». Либералы используют ресурсы места пребывания, отправляя заработанные капиталы в тихие зарубежные финансовые гавани. В силу того, что спекулятивные сделки и торговые биржевые операции составляют «соль» глобальной экономики, ключевой фигурой глобальных рынков становится трейдер (продавец).
Производительные, научные и творческие силы глобализируемой, поглощаемой страны либо приглашаются к сотрудничеству на основе безусловного признания и продвижения либеральных ценностей, либо исключаются из профессионального сообщества, объявляются изгоями.
Индивидуализм противопоставляется коллективизму, объявленному толпой со стадным инстинктом, и рассматривается как идеальное воплощение гражданских свобод. В СМИ продвигаются шоу, в которых высшей доблестью становятся подлость, эгоизм и предательство.
Глобализм в качестве мишени видит прежде всего историзм нации, ее культуру и язык. Поэтому всячески поощряется отказ от своего языка в пользу некоего «международного».
В основе либерального капитализма лежало общество комфорта, всеобщего благоденствия. Сегодня эта идея трещит по швам. Мир становится все более жестким, силовые спецоперации, гуманитарные интервенции, нарушающие международное право, стали атрибутом современной политики.
Углубляется всемирная экономическая и демографическая поляризация. Широкое обеспечение социальных благ неизбежно наносит удар по столпу либерализма—комфорту. А раз нет комфорта—нет и социального консенсуса. Эпоха либерализма завершилась. Началась эпоха неолиберализма.
Византийское наследие и девиация западного проекта Глобализация, глобализм ассоциируются априори исключительно с западными ценностными подходами. Является ли сегодняшний западный проект западным, цивилизационно близким и продолжающим традиции Древнего Рима, о чем постоянно напоминают современные западные глобалисты?
Восточный глобальный проект – явление сугубо идеологическое, а потому нередко завершающееся крахом в конечном итоге (Персия, Карфаген, Монгольская империя и т.д.). Западный проект опирается на экономику, зачастую вырастает из технического задания, прикладного характера первоначального замысла. Великие географические открытия, экспедиции испанской и португальской короны в Америку, формирование Британской колониальной империи и т.п. имеют конкретное экономическое обоснование, проводились во имя наживы, приобретения материальных активов, усиления ресурсной базы.
Таким образом, в экономической сфере Запад всегда был успешнее. Ситуация становится прямо противоположной, когда мы обращаемся к сфере духовного, культуры. В до античный период и Средневековье подавляющее большинство открытий совершались в рамках восточного проекта. Возвращение знаний о себе Запад осуществлял лишь через арабскую и византийскую традиции, далее двинувшись по пути секуляризации, обмирщения мышлений и потребностей.
Латинская пословица ex oriente lux («с Востока свет») права: духовный свет доподлинно исходит с Востока. Весьма небезынтересным явлением в контексте противоборства двухпроектов является византийский проект. Каково его место и где оно? На Востоке или Западе?
Варварское нашествие прервало римскую традицию на Западе, отбросив его на периферию развития, варваризировав Запад. Падение же Византии в 1453 году и подхватывание исторической преемственности Московской Русью, Третьим Римом, перенесло традицию византийской духовности и учености в Россию, тем самым сделав Русь продолжателем традиций цивилизованного центра, противопоставленного варварской периферии. Именно в этом сущность противостояния Востока и Запада, секрет многовековой ненависти варварского Запада к Византии и Руси-России.
Ненависть к Византии во многом базировалась на ее легитимности, величии, могуществе и блеске. В силу этого византийские императоры были объявлены деспотами и тиранами. Варварские династии Запада стремились через уничтожение Византии присвоить себе право законных продолжателей традиций Рима.
Упускается из виду то, что, несомненно, в Византии было прогрессивно и чему Запад у нее научился. Партии, сенат, муниципальное самоуправление, унаследованные ею от античного периода, продолжали в ней функционировать тогда, когда в Европе о таких формах и не подозревали.
Немаловажно отметить, что эти формы политической организации раньше всего возникли в европейских городах, находившихся под византийским контролем, в Венеции и Флоренции. Не стоит также забывать, что классический английский парламентаризм сформировался под непосредственным византийским влиянием. В Византии сохранялось и бережно передавалось наследие философских и политических школ античности, фундаментальные естественно-научные знания, ставшие эталонными для монастырей и университетов Запада.
Система права, адаптированная Юстинианом под потребности и запросы восточно-христианского общества, легла в основу концептуальных юридических систем Запада. Фресковая техника, романский стиль оказали огромное воздействие на изобразительное искусство Западной Европы. Сам Ренессанс был бы не возможен без византийского наследия.
Основным обвинением в адрес Византии, восточной сатрапии всегда было то, что Восток (Китай, Византия, Россия и т. д.) в качестве основного приоритета выдвигает идеологию, вследствие чего неизбежно страдает экономика. Все восточные проекты – идеократии (общественный строй, основанный не на материальных ценностях, а на идеях. – Примем, ред.). Предположим, что это утверждение верно. Тогда что же мы наблюдаем сегодня? Девиацию (отклонение) западного проекта, который на наших глазах, участвуя в санкционной войне, превращается в восточный, то есть абсолютно идеологизированный. И это ставит под большое сомнение успешность его завершения. США, достигнув статуса Римской империи, поддались восточному соблазну. Их действия утратили прагматизм, и конечной целью внешней политики стал объявленный ими поход за всемирной демократией.
Таким образом, совершенно очевидно, что в последнее десятилетие западный проект, поставив на идеологию, переродился в восточный, а российский, открывшийся миру, со ставкой на экономическое развитие и гражданские свободы, – в западный. Кто же кого учит? Варвары и дикари (Запад), экспортирующие демократию, легитимную наследницу Римской империи, – Россию.
Глава 7
Пётр I и протестантизм. Начало болезни русской жизни
Почему столь сильны последние 200 лет либеральные настроения в среде русской интеллигенции и когда впервые семена либерализма упали на российскую почву?
Многие западные философы понимают и отмечают различия Запада и России как различия не народов, а миров. «Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, политическое и хозяйственное противоречие между англичанами и французами, но перед русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый мир… Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времен Конфуция, если бы они внезапно появились среди нас. Он сам это всегда осознавал, проводя разграничительную черту между «матушкой Россией» и «Европой».
Для нас русская душа… остается чем-то непостижимым. И это не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между нами и ними», – отмечал О. Шпенглер.
Несмотря на это, столетиями Запад прилагал и прилагает титанические усилия встроить Россию в Запад, осуществить перекодировку цивилизационных кодов, разрушить российскую традиционность и самобытность. Когда военная экспансия не приносит ожидаемых плодов, Запад пытается действовать информационно-психологическими методами, внедряя в российскую политическую элиту кураторов, проповедующих западные ценности, как это было в годы перестройки, когда идеи Реформации внедрялись в общественное сознание М.С. Горбачевым и А.Н. Яковлевым. Однако истоки процесс берет значительно раньше – в XVIII веке, поскольку такие кураторы были и у Петра I.
Внедренные им новации, такие как Всешутейший собор, самоличное участие в казнях и брадобритиях, нередко трактуются историками как курьезное, потешное отклонение от нормы. За изменениями в быту, образовании, церковной реформой стояли не шалости Петра I, а трудный выбор во впервые сформулированной для Руси дилемме: протестантская модель или византийское преемство?
Первым давшим резко негативную оценку этой стороне Петровских реформ был Н. М. Карамзин, который в «Записке о древней и новой России» писал: «Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранное, государь унижал россиян в собственном их сердце». Преобразования ограничились дворянством, с тех пор высшие отличались от низших, русские дворяне все больше стали походить на немцев.
Среда, сформировавшая Петра I, —это Немецкая слобода, в которой решающее воздействие на Петра I оказывал швейцарец-кальвинист Франц Лефорт. Важными вехами в процессе десакрализации света стали отправка молодых людей на обучение за границу и поездка самого Петра I в составе Великого посольства в 1697-1698 годах.
В трактовке С.М. Соловьева, коренные изменения быта Петр I начинает сразу же по возвращении из-за границы. После «репетиции» теперь его действия приобретают уже характер государственных изменений. Указ о брадобритии последовал 26 августа 1698 года. Стоит напомнить, что в то время мужчину без бороды на Руси мужчиной не считали. «С гладким, как у бабы, лицом» —такие характеристики звучали в те времена. Борода, таким образом, выступала как один из половых признаков идентификации.
Аналогии столь очевидны, что невольно рождаются ассоциации, в которых все же имеется рациональное зерно. Ну как не сравнить кощунства Всешутейшего собора с кощунством «Пусси Райот», а пропаганду брадобрития с пропагандой однополых браков?
Панорама насилий над бытом и антисакральное поведение самого Петра I дополняются самоличным участием государя в казнях. Выходило что-то немыслимое. Царь освящает посредством своего участия пытки и казни, вместо традиционно милостивого монаршего стиля поведения.
Петр, как известно, открыто сожительствовал с немкой Анной Моне, а свою законную супругу Евдокию Лопухину отправил в монахини. Это коробило и раздражало, рождало в народе самые невероятные слухи и сплетни, явно неспособствующие укреплению имиджа государя.
Своими манифестами об упразднении патриаршества, о мерах по ограничению монашества, о преследовании нищих и кликуш Петр I прямо следовал по протестантскому кальвинистскому мировоззренческому и религиозному коридору, в котором нет места беднякам и неудачникам. Сохранились свидетельства о попытке немецких полковников в Астрахани заставить людей есть мясо в постные дни. Все эти новации воспринимались населением как прямое покушение на православие.
Отсюда и курьезный народный слух о «подмене царя», о том, что Петр I—ненастоящий царь. Прямые аналогии с перестройкой, распадом СССР, покушением на советское наследие, со слухами в народе о подмене генсека.
Упразднение патриаршества в этом случае не является следствием эмоций, сиюминутной вспышки раздражения государя, а выступает как продуманная мера, навеянная вывезенными из Западной Европы впечатлениями.
По сообщению русского посла, в Риме князя Куракина, имела место беседа Петра I и английского короля Вильгельма, «который советовал, взяв в пример Англию, сделаться самому главой религии в своей стране, без чего он никогда не будет у себя полным господином».
Именно в этих петровских преобразованиях кроятся истоки вируса либерализма в России, давшие обильные всходы и сомнительные плоды в XIX, XX и начале XXI веках, заразившие русское общество «европейничаньем», стремлением походить на Запад.
При Петре I в культуре России XVIII века происходили процессы, которыми Запад был охвачен два столетия назад. Так задавался догоняющий вектор псевдоразвития, формировались неравноправные (пока лишь в сфере культуры) отношения Запада как центра и России как периферии.
Через распространение и развитие мануфактур в стране начал формироваться капитализм. Следствием его развития стала неудачная попытка совершить буржуазную революцию декабристами на Сенатской площади 1825 года.
Задача «догнать и перегнать Запад» не оригинальна в российской истории. Этим ложным путем двигался и Н. С. Хрущев, реформы которого были изначально обречены, поскольку в идеократической стране он провозгласил чисто материальную цель, подменив высокое бюргерскими идеалами потребления. Добровольно отдавая лидерство в сфере культуры и идеологии, Россия неизбежно со временем должна была пересесть в прицепной вагон, следующий в экономике и геополитике в арьергарде англосаксонского Запада.
Глава 8
Россия в поисках себя
В начале 1990-х годов российские обществоведы приступили к самобичеванию, подключив к процессу самоистязания все общество. Россия проклинала прошлое, забыв о предостережении Ф.М. Достоевского, прозвучавшего в «Бесах»: «Кто проклянет прошлое, тот уже и наш». Мы отказывались от самих себя, от своих традиций и ценностей, забыв о долге, морали, патриотизме, чести и достоинстве. Мы наконец-то порывали с проклятой деспотией, азиатчиной и вступали в ряды цивилизованного человечества, то есть Запада, который призывно манил россиян обществом потребления, массовой культурой, джинсами, жевательной резинкой, вседозволенностью и одновременно правами человека.
«С одной стороны, Запад находится на вершине своего могущества, а с другой, и возможно, как раз поэтому,– среди не западных цивилизаций происходит возврат к своим собственным корням. Все чаще приходится слышать о «возврате в Азию» Японии, о конце влияния идей Неру и «индуизации» Ближнего Востока, а в последние годы и споры о вестернизации или русификации новой России. На вершине своего могущества Запад сталкивается с не западными странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру не западный облик»,– подчеркивает С. Хантингтон.
Российский политический истеблишмент и бизнес-элита все еще заражены вирусом западофилии, американозависимости. Азиатчину, тиранию и деспотизм российское общество решительно отвергает. Так ли страшен азиатский деспотизм? Может быть, мы снова оказываемся в плену стереотипов, ложных представлений, становимся игрушкой в руках манипуляторов сознанием, громогласно разделяющих мир на цивилизацию Запада, основанную на священной частной собственности и правах человека, либеральной демократии, и традиционного дикого средневекового отсталого Востока, представленного режимами-изшями Ирана, Сирии, коммунистическо-капиталистического Китая и др.
Как отмечает Н. С. Трубецкой, Русь усвоила всю «технику монгольской государственности, прежде всего монгольскую «систему управления». Возникает закономерный вопрос: если система, навязываемая чужеземными завоевателями, абсолютно чужда, может ли она быть усвоена? В соответствии с концепцией сопротивления культур Ф. Броделя, чем выше давление чуждой культуры на автохтонную традиционность, тем выше сопротивление ей, тем отрицательнее результат воздействия.
Русь же легко перемолола татаро-монгольскую политическую культуру, в результате чего возникла комбинированная политическая система как результат исторического синтеза культур. Монгольская государственность стала зданием, возведенным на древнеполитарном фундаменте Киевской Руси, логичным продолжением развития русской государственности. Потому так легко и была усвоена. Как писал Г. В. Вернадский: «Прямо или косвенно монгольское нашествие способствовало и росту абсолютизма и крепостничества».
Широко известно методологическое подразделение мировых процессов и истории цивилизаций на центр и периферию, колонии и метрополии. Периферия обречена на догоняющее развитие, а колонии—на обслуживание метрополий. В центре проживает «золотой миллиард» человечества, на периферии— все остальные, обязанные создавать комфортные условия существования центру. Реакцией на периферийный капитализм и стали прокатившиеся почти одновременно в странах периферийного капитализма в начале XX веков России (1905- 1907), Иране (1905-1911), Османской империи (1908-1909), Китае (1911-1912), Мексике (1911-1917) революции, направленные против диктата Западного центра, которые правильнее и точнее называть национально-освободительными. Заключительным аккордом этих антикапиталистических выступлений (не уверен, что корректно употреблять термин «социалистическая революция») стала Октябрьская революция 1917 года.