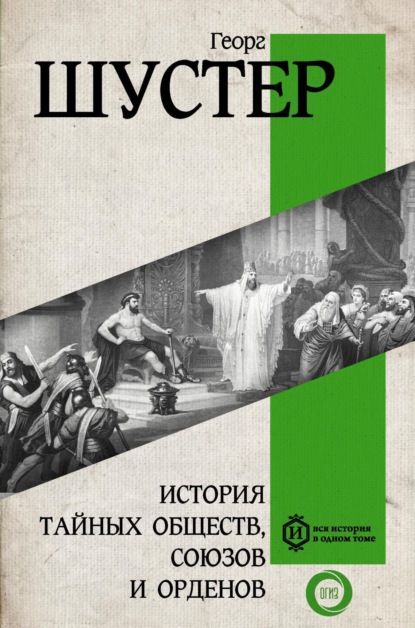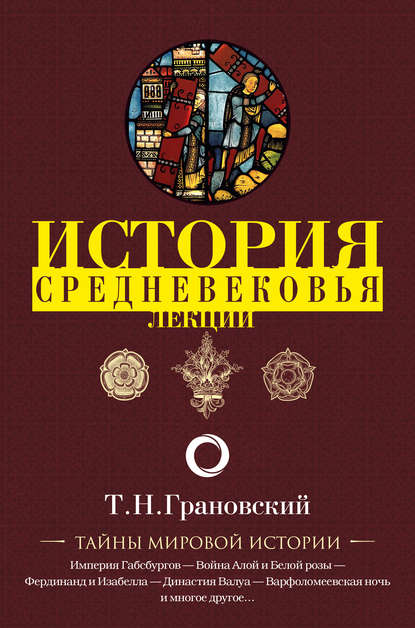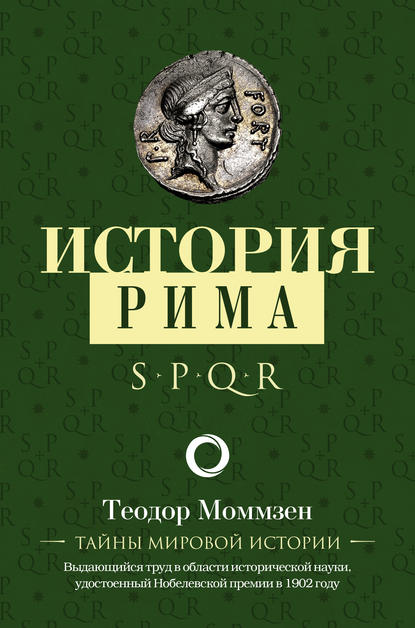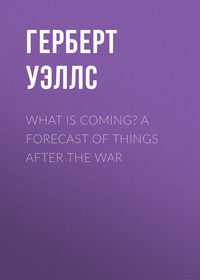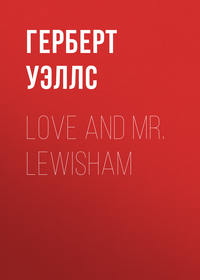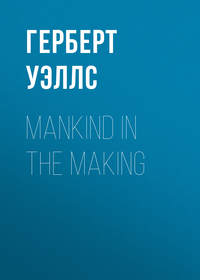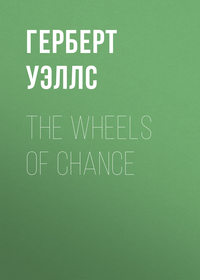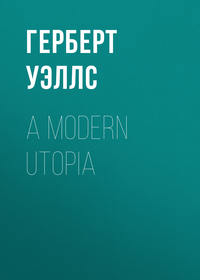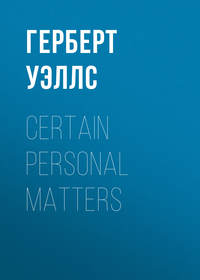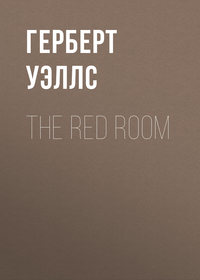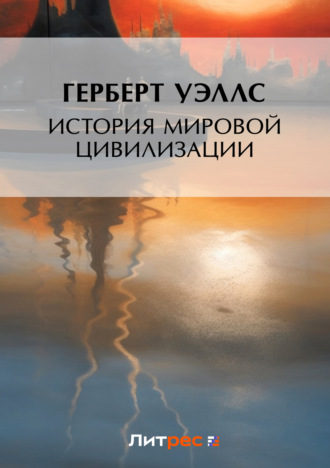 полная версия
полная версияИстория мировой цивилизации
В века, последовавшие за VI веком до P. X., мы всюду встречаем великий надлом древних традиций и пробуждение духа нравственной и умственной пытливости, которому, в дальнейшем развитии человеческого рода, уже не суждено было более заглохнуть. Чтение и письмо становились более обычными среди правящего и зажиточного меньшинства; они уже более не составляли ревниво охраняемой тайны жрецов. Путешествия становились более частыми, и способы передвижения более легкими благодаря употреблению лошадей и устройству дорог. Чеканные деньги являются новым способом облегчения торговых сношений.
Теперь перейдем от крайнего востока Древнего мира, Китая, к западной половине Средиземного моря. Здесь мы должны отметить появление города, которому суждено было сыграть очень большую роль в человеческой судьбе, – перейдем к Риму.
До сих пор мы в этой книге очень мало говорили об Италии. За 1000 лет до P. X. это была гористая, лесистая, скудно населенная страна. Племена, говорящие на арийском языке, продвигались по этому полуострову, сооружая маленькие и большие города: южная часть полуострова была усеяна греческими колониями. Прекрасные развалины Пестума окружены в наших глазах отблеском великолепной культуры этих ранних греческих поселений. Народ, не принадлежащий к арийской группе, народ, вероятно, родственный эгейским народам – этруски – основался в центральной части полуострова. Как бы в нарушение обычного порядка истории, этруски временно возобладали здесь над арийскими племенами. О Риме, когда он впервые появляется в истории, упоминается как о маленьком торговом городке, построенном около брода реки Тибра, населенном народом, говорящим на латинском языке и управляемом этрусским царем. Древняя хронология определяет 753 год до P. X. годом основания Рима, т. е. на полстолетия позже основания великой финикийской столицы Карфагена и 23 года спустя после первых Олимпиад. Однако в раскопках древнего Форума найдены были этрусские могилы гораздо более древнего происхождения, нежели 753 год до P. X.
В блестящем VI веке до P. X. этрусские цари были изгнаны (510 г. до P. X.), и Рим обратился в аристократическую республику с господствующим классом «патрициев», управляющим общей массой «плебеев». За исключением того, что здесь язык был латинским, республика эта во многом походила на греческие.
В течение многих веков внутренняя история Рима была историей упорной борьбы за свободу и за право участия плебеев в управлении. Параллельную борьбу легко заметить и в греческой истории: там она называется борьбой между аристократией и демократией. В конце концов плебеи сломали большинство тех исключительных преград, которыми окружали себя древние роды, и добились гражданского равенства. Тем самым они дали Риму возможность распространять право «Римского Гражданства» все шире и шире, включая в него все более и более «инородцев». Ибо, одновременно с внутренней борьбой, Рим расширял свою власть новыми завоеваниями.
Распространение римской власти началось с V столетия до Р. Х. До того они воевали – и большей частью неудачно для себя – с этрусками. У этрусков был укрепленный город Вейи, на расстоянии всего нескольких миль от Рима, завладеть которым римляне были не в состоянии. Однако в 474 г. до P. X. великое несчастье обрушилось на этрусков. Флот их был уничтожен греками из сицилийских Сиракуз. Одновременно волна северного племени – галлов – двинулась на них с севера. Сдавленные между Римом и галлами, этруски были побеждены и исчезли со страниц истории. Вейи были завоеваны римлянами. Галлы подошли к Риму и разграбили город (390 г. до P. X.), но не могли взять Капитолия (гоготание гусей помешало попытке ночного штурма). В конце концов осаждающие получили выкуп и снова удалились на север Италии.
Набеги галлов не только не ослабили Рим, но как будто еще более укрепили его. Победив этрусков, римляне смешались с ними и распространили свою власть на всю Центральную Италию, от Арно до Неаполя. Это было достигнуто около 300 г. до Р. Х. Завоевания их в Италии совпадают по времени с укреплением Филиппа в Македонии и Греции и с великим походом Александра на Египет и Индию.
К северу от римлян находились галлы, к югу – греческие поселения, Великая Греция, т. е. Сицилия и южные оконечности Италии. Галлы были выносливым воинственным народом, и римляне сдерживали их натиск на свои границы целой цепью фортов и укрепленных поселений. Греческие города на юге, с Тарентом (теперь Таренто) и сицилийскими Сиракузами во главе, не столько угрожали Риму, сколько боялись его. Они как бы оглядывались по сторонам, ища защиты от этих новых завоевателей.
Мы уже рассказали, как распалось царство Александра и как оно было разделено между его полководцами и сотоварищами. Среди этих авантюристов был родственник Александра – Пирр, утвердившийся в Эпире, который находится по ту сторону Адриатического моря, как раз напротив «каблука» Италии. Мечтой его жизни было сыграть в Великой Греции ту же роль, какую Филипп сыграл в Македонии, и сделаться покровителем и диктатором Тарента, Сиракуз и остальных областей этой части мира. Он обладал, как тогда считалось, очень боеспособным современным войском, в котором имелась пехотная фаланга, конница из Фессалии, равная по достоинству македонской коннице, и двадцать боевых слонов. Он вторгся в Италию, разбил римлян в двух значительных сражениях – при Гераклее, в 280 году до P. X., и при Аускуле, в 279 году до P. X., – и, прогнав их на север, занялся покорением Сицилии.
Но это вызвало против него вражду противника, более сильного, нежели римляне того времени, – финикийского торгового города Карфагена, который, по всей вероятности, был в то время величайшим городом в мире. Сицилия находилась слишком близко от Карфагена, чтобы присутствие в ней второго Александра могло быть приемлемо для Карфагена. Карфаген помнил участь, постигшую за пятьдесят лет перед тем Тир, город, от которого он сам произошел. Поэтому он послал флот, чтобы подкрепить Рим и заставить его продолжать борьбу. Вместе с тем он отрезал Пирру все морские сообщения. Римляне вторично напали на Пирра, и он потерпел тяжелое поражение при атаке, предпринятой им на лагерь римлян при Беневентуме, между Неаполем и Римом. Неожиданно он получил известие, потребовавшее его возвращения в Эпир. Галлы надвигались на юг. Но в этот раз они шли не на Италию. Римская укрепленная и охраняемая граница стала слишком неприступной для них. Они шли через Иллирию (нынешняя Сербия и Албания) на Македонию и Эпир. Отраженный римлянами, угрожаемый Карфагеном на море и галлами на родине, Пирр оставил свои мечты о завоевании и в 275 году до P. X. вернулся домой. А власть римлян распространилась вплоть до Мессинского пролива.
На сицилийской стороне пролива находился греческий город Мессина, и этот город вскоре был захвачен пиратами. Карфагеняне, которые были фактическими властителями Сицилии и союзниками Сиракуз, посадили в Мессине свой гарнизон. Пираты обратились за помощью к Риму, и Рим обратил внимание на их жалобу.
Таким образом, разделенные только Мессинским проливом, стояли друг против друга эти две враждебные страны: великое торговое государство Карфаген и новый победоносный народ – римляне.
Глава XXXII. Рим и Карфаген
В 264 году до P. X. началась великая борьба между Римом и Карфагеном – Пунические войны. В этом году в Бехаре Ашока начинал свое царствование, а Шихуанди был еще ребенком. Музей в Александрии стоял еще на высоком научном уровне, а варвары-галлы появились в Малой Азии, требуя дани от Пергама. Различные страны мира были разделены еще непреодолимыми пространствами, и, по всей вероятности, до остального человечества доходили лишь смутные отдаленные слухи о том смертельном бое, который в продолжение полутора веков тянулся в Испании, Италии, Северной Африке и западно-средиземных странах между последним оплотом семитического владычества и Римом, этим новым пришельцем среди арийских народов.
Эта война оставила следы, которые и по сие время ощущаются в мире. Рим одержал верх над Карфагеном, но соревнование между арийцами и семитами продолжалось, хотя и в иной форме, в форме соревнования между необрезанными и евреями. Мы приближаемся теперь к описанию событий, последствия и неправильно понятая традиция которых все еще дают чувствовать себя, оказывая сложное, часто неуловимое влияние на борьбу и разногласия современности.
Первая Пуническая война началась в 264 году до P. X., будучи вызвана мессинскими пиратами. Она разыгралась в борьбу за обладание всей Сицилией, кроме владений греческого сиракузского царя. Сначала успехи на море склонялись на сторону Карфагена. Он обладал большими военными судами, размер которых превышал все виденное до того времени (так называемые квинкверемы, галеры с пятью рядами весел и громадными осадными орудиями). Во время битвы при Саламиие, за два века перед тем, самыми крупными галерами были триремы, с тремя рядами весел. Но римляне, несмотря на то, что у них было очень мало морского опыта, с небывалой энергией приступили к делу, решив во что бы то ни стало превзойти карфагенян. Они привлекли к созданному ими флоту греческих моряков и изобрели абордажные мосты, которые составили противовес превосходным силам противника. Когда карфагенский корабль приближался, громадные железные крюки захватывали его, и римские воины толпой бросались на неприятельский борт. При Милах (260 г. до P. X.) и при Экноме (255 г. до P. X.) карфагеняне потерпели тяжелое поражение. Они, правда, отразили римскую высадку около Карфагена, но потерпели тяжелое поражение при Палермо, потеряв там 104 слона, которые впоследствии украсили небывало торжественное триумфальное шествие по форуму Рима. После этого последовали два поражения и одна победа римлян. Последние морские силы Карфагена были разбиты во время сражения при Эгейских островах (241 г. до P. X.), и Карфаген послал просить мира. Вся Сицилия, кроме владений Гиерона, царя Сиракузского, была уступлена римлянам.
Мир между Римом и Карфагеном сохранялся в течение 22 лет. У того и у другого и без войны было достаточно забот дома. В Италии галлы опять двинулись на юг и угрожали Риму, который в момент панического ужаса принес богам человеческие жертвы. Галлы были разбиты при Теламоне. Рим расширил свои владения до Альп и даже дальше – по Адриатическому побережью до Иллирии. Карфаген страдал от внутренних восстаний и от бунтов на Корсике и Сардинии и не имел достаточно жизненных сил, чтобы оправиться от нанесенного ему поражения. Наконец, Рим совершил нестерпимо вызывающий по отношению к нему поступок, захватив и присвоив себе оба восставшие острова.
В то время Испания, на север до реки Эбро, принадлежала карфагенянам. Римляне требовали, чтобы они не смели переступать эти границы; всякий переход карфагенянами реки Эбро считался римлянами актом объявления войны. Наконец, в 218 году Карфаген, выведенный из терпения новыми вызывающими поступками Рима, решился перейти эту реку под предводительством молодого полководца Ганнибала, одного из самых блестящих вождей, известных истории. Он повел свое войско из Испании через Альпы в Италию, поднял против римлян галлов и в течение 15-ти лет продолжал вторую Пуническую войну в самой Италии. Он нанес страшное поражение римлянам при Тразименском озере и при Каннах, и в течение всего его итальянского похода ни одно римское войско, встретившись с ним, не могло избежать поражения. Но римляне высадили свои войска в Марселе и отрезали его от сообщения с Испанией; он не обладал средствами осады и потому не мог взять Рим. Наконец, карфагеняне, угрожаемые восстанием нумидийцев на родине, должны были сосредоточить все силы на том, чтобы защитить свою столицу в Африке. Римское войско переправилось в Африку, и Ганнибал испытал первую неудачу у стен Карфагена, в сражении при Заме (202 г. до P. X.), нанесенную ему Сципионом Африканским Старшим. Сражением при Заме окончилась вторая Пуническая война. Карфаген сдался. Он уступил Риму Испанию и свой военный флот; он должен был заплатить громадную военную контрибуцию и согласился предать Ганнибала мести римлян. Но Ганнибал бежал в Азию, где позднее, чтобы не отдаться в руки своих беспощадных врагов, лишил себя жизни, приняв яд.
В течение 56 лет продолжался мир между Римом и уменьшенным и ослабленным Карфагеном. Тем временем Рим распространил свое владычество на раздробленную, охваченную смутой Грецию, вторгся в Малую Азию и победил при Магнезии в Лидии Антиоха III, монарха Селевкида. Египет, находившийся тогда под властью Птолемеев, Пергам и большинство малых государств Малой Азии он обратил в «союзников» или, как сказали бы мы, в «заградительные государства».
Тем временем побежденный и ослабленный Карфаген постепенно восстановлял часть своего прежнего благосостояния. Это возрождение пробудило ненависть и подозрение римлян. Самый пустяшный и искусственный случай послужил поводом к войне (149 г. до P. X.). Карфаген упорно и отчаянно защищался, выдержал долгую осаду и был взят штурмом (146 г. до P. X.). Сражение, вернее – массовое избиение, длилось в городе целых шесть дней: оно было чрезвычайно кровопролитным, и, когда, наконец, цитадель сдалась, в живых оставалось только 50 000 человек карфагенского населения, вместо прежних 250 000. Они были проданы в рабство, а город сожжен и разрушен до самого основания. Почерневшие развалины его были перепаханы вместе с землей и засеяны, – своего рода обряд, символизирующий полное и окончательное уничтожение.
Таким образом кончилась третья Пуническая война. Из всех семитических государств и городов, процветавших за пять веков до этого, только одно маленькое государство оставалось свободным и управляемым собственными правителями. Это была Иудея, освободившаяся от власти селевкидов и управляемая своими царями Маккавеями. К тому времени Библия была уже почти полностью собрана, и характерные традиции еврейского народа, знакомые нам, успели определиться. Естественно, что карфагеняне, финикийцы и родственные им племена, разбросанные по всему миру, чувствовали связующее звено в своем почти тождественном языке и в своей литературе, исполненной надежды и бодрости. Большею частью они являлись торговцами и банкирами мира. Семитический мир был скорее затоплен, чем заменен арийским.
Иерусалим, который всегда был скорее символом, чем настоящим центром иудейства, был взят римлянами за 65 лет до Р. Х. После различных бедствий полусамостоятельного существования и различных восстаний, в 70 г. по P. X. он был осажден римлянами и, после упорного сопротивления, взят ими. Храм был разрушен. Более позднее восстание в 132 году по P. X. завершило его разрушение, а тот Иерусалим, который мы теперь знаем, был позднее снова выстроен под покровительством римлян. Храм, посвященный римскому богу Юпитеру Капитолийскому, стоял на месте иудейского храма, и евреям было даже запрещено жить в городе.
Глава XXXIII. Развитие Римской империи
Новая римская власть, как бы возникшая для того, чтобы покорить западный мир во втором и первом веках до P. X., во многих отношениях не походила на те великие империи, которые до того времени господствовали в цивилизованном мире. На первых стадиях своего развития Рим не был монархией, не был созданием одного какого-либо великого победителя. Он не был и первым республиканским государством. Во времена Перикла Афины господствовали над целой группой союзных и подвластных государств, а Карфаген в то время, когда он вступил в пагубную для себя борьбу с Римом, властвовал над Сардинией, Корсикой, Марокко, Алжиром, Тунисом и большей частью Испании и Сицилии. Но Рим был первым республиканским государством, избегнувшим уничтожения и продолжавшим свое развитие.
Центр этого нового государства лежал гораздо западнее, нежели более древние центры владычества, которые до того сосредоточивались по речным долинам Месопотамии и Египта. Это западное месторасположение дало Риму возможность приобщить к цивилизации новые страны и новые народы. Власть Рима простиралась до Марокко и Испании, а вскоре дала еще новые разветвления на северо-запад, простиралась по местности, ныне занятой Францией и Бельгией, вплоть до Британии, а на северо-восток – до Венгрии и юга России. Но, с другой стороны, в Центральной Азии и Персии Риму удержаться не удалось, так как эти страны были слишком удалены от его административных центров. Поэтому это государство включало в себя всякое множество новых северных, говорящих по-аравийски, народов, а вскоре также все греческие народы всего мира; в населении его было значительно менее преобладание хамитических или семитических элементов, чем в населении всех предшествующих государств.
В течение нескольких столетий Римская империя не шла по той проторенной колее, которая так быстро привела к гибели Персию и Грецию. Развитие ее совершалось самостоятельно. Через одно или два поколения правители Мидии и Персии становились совсем похожими на вавилонян. Они возлагали на себя тиару царя царей, поклонялись их богам в их храмах, признавали их жрецов. Александр и его последователи шли тем же легким путем ассимиляции; двор и приемы управления селевкидов мало чем отличались от двора и приемов Навуходоносора. Птолемеи стали фараонами и имели совсем египетский облик. Они ассимилировались так же, как ассимилировались с египтянами перед тем семитические победители шумерийцев. Но римляне управляли собственным городом и в течение столетий придерживались собственного законодательства. Единственный народ, оказавший сильное влияние на них до II и III веков после P. X., были родственные и схожие с ними греки. Таким образом, Римская империя является первым опытом управления великим государством всецело на основании арийских принципов. В этом смысле она явилась первым историческим образцом; это была разросшаяся арийская республика. Старый образец вождя, правящего главным городом, воздвигнутым вокруг храма божества, связанного с временами года, здесь не имел места. И у римлян были боги и храмы, но они, как и у греков, были получеловеческие, бессмертные существа, своего рода божественные патриции. У римлян также существовали кровавые жертвоприношения, а во времена опасности даже человеческие жертвоприношения, которым они, быть может, научились от своих учителей, смуглых этрусков, Но вплоть до времен упадка Рима ни храм, ни жрец не играли большой роли в его истории.
Римская империя представляла нечто живое, растущее, непредвиденное, новое, развивающееся. Римскому народу, почти неожиданно для него самого, пришлось взяться за великий административный опыт. Нельзя считать этот опыт удачным. Под конец империя потерпела полное крушение. Но с каждым столетием формы и способы управления менялись чрезвычайно радикально. В течение ста лет Рим изменялся более, чем Бенгалия, Месопотамия или Египет изменялись в течение тысячелетия. Он менялся постоянно. Он никогда не застывал, вылившись в определенные формы.
В одном отношении опыт этот оказался неудачным. В другом он и по сие время остается незаконченным, и Европа и Америка все еще разрешают те задачи мирового управления, над которыми впервые задумался римский народ.
Всякому, изучающему историю, необходимо помнить о великих реформах, которые все время происходили не только в политической, но и в общественной и моральной области за все время владычества римлян. Люди слишком склонны смотреть на управление Рима, как на нечто законченное и постоянное, стойкое, закругленное, благородное и определенное. В «Очерках древнего Рима» Маколея, Катон старший, Сципионы, Юлий Цезарь и Диоклетиан, Константин Великий, триумфы, речи, бои гладиаторов и христианские мученики – все вместе сплетается в одну картину чего-то возвышенного, жестокого и благородного. Следует разобраться в составных частях этой картины. Все эти различные стороны являются результатом перемен, более глубоких, чем те, которые отделяют современный Лондон от Лондона Вильгельма Завоевателя.
Эпоха расцвета Рима может очень удобно быть разделена на четыре периода. Первый период начался после разрушения Рима готами в 390 году до P. X. и продолжался до 240 года до Р. Х. Этот первый период может быть назван эпохой ассимилирующей республики. Быть может, это самый славный, самый характерный период римской истории. Вековые раздоры между патрициями и плебеями близились к концу; опасность со стороны этрусков также прекратилась; не существовало ни чрезмерно богатых, ни очень бедных; большинство людей были одушевлены общественным духом. Республика эта походила на республику африканских буров до 1900 года или на Северо-Американские Штаты 1800–1850 годов; это была республика свободных земледельцев. При вступлении в этот период Рим был маленьким государством, не более 20 миль в длину и в ширину. Он воевал с сильными родственными соседними государствами, стараясь не разрушать их, но заручиться их содействием. Столетия гражданской войны приучили народ к уступкам и компромиссам. Некоторые из покоренных городов приняли вполне римский облик и даже приобрели право голосования; некоторые сохранили самоуправление с правом вести торговлю с Римом и вступать в брак с его жителями. Гарнизоны полноправных римских граждан оставлялись в городах, имеющих стратегическое значение, и колонии, наделенные различными правами, основывались среди вновь покоренных народов. Строились большие дороги. Быстрая латинизация всей Италии была неизбежным последствием такой политики. В 89 году до P. X. все свободное население Италии получило право римского гражданства. Формально вся Римская империя представляла под конец один разросшийся город. В 212 году по P. X. каждый свободный житель на всем протяжении империи получил право гражданства, право голосования в городском собрании Рима (если ему удавалось попасть туда).
Это распространение права гражданства на покоренные города и на целые страны является отличительным приемом разрастания Рима. Здесь прежний процесс поглощения победителей побежденными пошел в обратную сторону. Благодаря методу, применявшемуся Римом, победители ассимилировали себе побежденных.
Но после первой Пунической войны и присоединения Сицилии, параллельно с этим все продолжающимся процессом ассимиляции, выступает и другой процесс. К Сицилии, например, отнеслись, как к военной добыче. Ее объявили достоянием римского народа. Плодородная почва ее и трудолюбивое население эксплуатировались для обогащения Рима. Патриции и более влиятельные плебеи захватили в свои руки главную часть этих богатств. Война также доставила Риму громадное количество рабов. До первой Пунической войны население республики было по преимуществу населением граждан-земледельцев. Военная служба составляла и обязанность и привилегию их. Во время их отсутствия на действительной службе на их поместьях накапливались долги, и появился новый тип крупных имений, главным образом, обрабатываемых с помощью рабов; по возвращении с войны римляне-земледельцы увидели, что продукты их поместий должны конкурировать с продуктами Сицилии, а также с продуктами новых, возникших на родине имений, полученными с помощью дарового труда рабов. Времена изменились. Характер республики был уже не тот. Не одна Сицилия была, в руках Рима: простолюдин также оказался в руках у богатого кредитора и богатого конкурента. Рим вступил во второй период, период республики предприимчивых богатых людей.
В течение двухсот дет римляне солдаты-земледельцы, боролись за свободу и за право участия в управлении; в течение ста лет они уже обладали этими правами. Первая Пуническая война разорила их и отняла все, чего они достигли. Их завоеванные избирательные права также потеряли свою ценность. В Римской республике было два правящих учреждения. Первым, более важным, был сенат. Вначале он избирался из среды патрициев, потом из среды выдающихся людей всех сословий, которые вначале призывались некоторыми влиятельными правителями, консулами и цензорами. Как и английская палата лордов, сенат скоро превратился в собрание крупных землевладельцев, выдающихся политических деятелей, влиятельных дельцов и т. п. Он более походил на английскую палату лордов, нежели на американский сенат. В течение трех столетий, начиная с Пунических войн, в нем сосредоточивалась вся политическая жизнь Рима. Вторым учреждением было народное собрание. Предполагалось, что это было собрание всех римских граждан. Когда Рим был маленьким государством в 20 кв. миль, такое собрание было возможно; когда римское гражданство распространилось за пределы Италии, оно сделалось совершенно немыслимым. Собрания эти, о которых трубачи возвещали с Капитолия и с городских стен, все более и более становились собранием демагогов и городских подонков. В IV веке до P. X. народное собрание являлось значительной уздой для сената и властным представителем требований и прав народа. К концу Пунических войн оно являлось лишь бессильным пережитком подавленного народного вмешательства. Не оставалось удерживающей преграды для великих мира сего.
В Римской республике никогда не существовало представительного правления. Никому в голову не приходило избирать делегатов, чтобы представлять волю граждан. Читателю чрезвычайно важно отметить этот факт. Народное собрание никогда не играло роли американской палаты представителей или английской палаты общин. В теории оно представляло всех граждан, в действительности перестало играть какую бы то ни было роль.