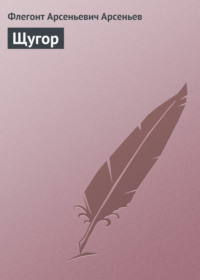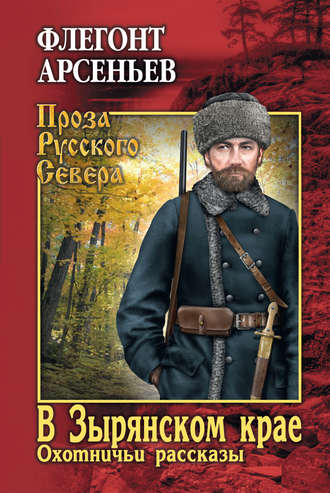
Полная версия
В Зырянском крае. Охотничьи рассказы
Долго шел я по берегу Шуйги, выбирая удобное местечко для уженья. Вода в реке заткана была везде болотными травами: лягушечник, аир, частуха и широколиственные лопухи нагусто покрывали поверхность омутов. Солнце поднялось высоконько и благотворно обогревало природу своими ласкающими лучами. Кое-где кучками толпились комары, в траве звонко трещали кузнечики, изредка поднимались с реки чирковые селезеньки, срывались с берега бекасы и с криком перемещались далее. По всем направлениям раздавался резкий крик коростелей и свист болотных курочек. Потянул ветерок, и загуляли серебристые волны по шелковистой осоке Чистей.
Вот чистенький омуток. Я осторожно спустился к нему и сел под ольховый куст около самой воды, размотал удочки, наживил крючки червем – забросил. Течения в омуте не было, поплавки удочек спокойно улеглись на чистовинку, я терпеливо начал ожидать клева. В тине, около самого берега, возились лягушки. По воде то и дело бегали паучки, и быстро описывали круги водяные кружалки, ярко сверкая на солнце своею изумрудною бронею. В воздухе чувствовался запах болота.
Прошло более получаса. Ничто не изобличало в омуте присутствия рыбы. Поплавки лежали неподвижно. Ни кругов, ни всплеска. Вода просвечивалась на глубину не более двух аршин; иловатое грязное дно Шуйги придавало ей темный, мрачный вид. Я не мог в ней рассмотреть ни одной рыбешки. То и дело всплывали на поверхность водолюбы, коромысла веяли над водою, садились на острые кончики осоки или на чашечки лопушника и неутомимо махали своими кисейными крылышками. Рыбы нет. Я уже хотел идти на другое место, как вдруг заметил около самого берега медленно плывущего язя, фунта в четыре или в пять. Он плавно, с достоинством высунул свой толстый лоб на поверхность воды, не торопясь схватил сухой листик, который парусило легеньким ветерком, и скрылся, широко развернув хвостом. Через несколько секунд листик всплыл почти на том же месте: не по вкусу, видно, пришелся, язь выбросил его. Убедившись, что рыба есть в омуте, я тихо, не делая ни малейшего движения, начал дожидаться, что будет далее. Показался еще язь, поменьше первого. Затем всплыли несколько штук язей, и появилось откуда-то множество средней величины плотвы, и начала плавиться уклея. Поплавки не шевелились. Клев не начинался. Рыба ходила около самых удочек, не обращая на насадку ни малейшего внимания. Я вздумал пустить крючок помельче. Едва сделал я движение, чтоб вынуть удочку для перевязки поплавка, как вся рыба мгновенно пала на дно, и снова водворилась в омуте пустота. Я поднялся, выше по откосу берега и спрятался за ольховым кустом, откуда и решил наблюдать за рыбою. Весьма понятно, что, чувствуя себя запертою, она до крайности робка, и не только шум или всплеск, но малейшее движение на берегу пугало рыбу и заставляло скрываться. Что-то будет теперь. Прошло около четверти часа. Снова заиграла уклея на поверхности воды, поднялась плотва, заходили язи, все более и более появлялось их в омуте, наконец весь омут покрылся сплошным толстым слоем рыбы разных пород: тут, кроме язей и плотвы, были и лещи, и голавли, даже провертывались окуни и судаки. А удочки все лежали неподвижно. Встрепенется иногда поплавок, побегут от него по воде концентрические круги, но не от клева, а какому-нибудь из обитателей прозрачных чертогов, при своем расхаживании по омуту, случится нечаянно задать спиною или боком за лесу и тем возбудить на некоторое время спокойное положение поплавка. Вдруг в вершине омута раздался сильный всплеск – мелкота дождем бросилась в разные стороны, штуки три уклеек выскочили наверх и начали печь блинки, т. е. запрыгали рикошетом по поверхности: в омуте, наискось от противоположного берега к моему, сверкнула блестящая полоса, и я разглядел огромную, аршина в полтора, щуку – из ее пасти торчал хвост язя. Хищница остановилась как раз против меня, медленно подплыла она под лист лопуха и, широко раздувая жабры, начала забирать внутрь свою добычу.
– Лов на рыбу! – раздался за моею спиною голос.
Я обернулся. Передо мною стояла величественная фигура Савела Прокопьича.
– Это вы, батюшка, совсем попусту тут трудитесь, – заговорил он, – ничего не добудете. Разве по нечаянности за бок какую вытащите, а на клев не пойдет – в омуте куда рыба осторожна, она понимает, что заперта и брать не будет: уж это испытано. А вот пойдемте, я вас сведу на место, может, что-нибудь и выудите.
– Рыбы-то много, Савел Прокопьич, – жаль оторваться.
– Да, оно лестно, что говорить, приятно видеть, как язи и голавли, и лещи тут, перед самым тобой, воочию расхаживают, да дело то выходит по пословице: «видит око, да зуб неймет». Заарестованная рыба клевать не будет, – уж будьте покойны!
Я завил удочки, и мы отправились с Савел Прокопьичем выше по Шуйге.
– Все же ты меня, Савел Прокопьич, на запертые воды ведешь, коли вверх идем: и там то же будет.
– Ну, там особая статья. Тут, вишь, к затону рыба приступила, выходу ищет, тут мы ее неводами и бреднями вылавливаем, а теперь я веду вас в плесо, на текучую воду, где постоянно своя рыба держится: сорога, подъязок, окунь, щучка средней руки; и затон снимем, она все держится. Там мы ее не ловим, да и ловить неспособно: травянисто, тина, заяски понаделаны, тычек, каряг, задев разных пропасть.
Речь Савела Проконьича была редкая, мерная. Он говорил с расстановкою, обдуманно, так же степенно и внушительно, как степенна и внушительна была вся его фигура. Он шел с правой руки от меня развалистою походкою, заложнив руки назад под синий, легенький кафтанчик со сборами. На голове Савела Прокопьича надета была немного на затылок новенькая, грешневиком, поярковая шляпа. Пояс с ключом спускался под живот, рельефно обрисовав его выпуклую тучную форму, высокий рост, нависшие густые брови, атлетическое сложение, большиe еще зоркие глаза, библейская борода в полгруди, волнистая, с проседью – красавец старик, не налюбуешься! Так и пышет от него несокрушимою силою, необъятною русскою мочью!
– Как вы ухитряетесь, Савел Прокопьевич, вылавливать рыбу в омутах? Сколько я заметил, они тоже травянисты: бредень или невод будет закатываться от травы, и тогда с рыбой ничего не поделаешь: вся уйдет.
– А на то, батюшка мой, средство есть такое. Омута в Шуйге, как вода лишняя посбежит, ведь неглубоки, они только на вид такими темными да страшными кажут. Дно в них грязное, тинистое, потому и вода черная. Как только вода спадет до межени, мы омута сейчас и начинаем раскашивать: обыкновенные косы насаживаем на длинные косьевища, забродим в воду и подкашиваем в омутах траву по самое дно. Подкошенная, она и всплывет вся наверх; растаскаем ее граблями по берегам, омуток сделается чистехонек, ловить и бреднем, и неводом сделается чудесно – ни одна рыбка не увернется. А выходы-то из омутов и в голове, и в хвосте запрем кужами, потому перед каждым омутом заяски и понаделаны, видели?
– Видел. И много рыбы вам в добычу достается, Савел Прокопьич?
– А год на год не придет, батюшка. Коли весна теплая, тихая, водополь большая, убыль постепенная, ровная, рыбы остается больше; при ненастной весне, холодной и ветряной – меньше. При дружной убыли – совсем малость. Дружная убыль для нас самое плохое дело: рыба с поймы разом вся тронется и скорехонько скатится вместе с водой, так что и затона построить не успеешь. В такие годы лучше бы и сежи не делать, да заведенье есть и привычка к делу исконная, каждый год затон держим. В xopoшиe года, огульно сказать, добывали на сеже пудов до тысячи разной рыбы, пожалуй и с хвостиком, в худые – тысячу то спустить надо, а оставить только хвостик. В старые годы было куда не то.
– Лучше рыба ловилась?
– И сравненья нет, помилуйте: во всякие снасти рыба шла куда обильно. Вот теперь, примерно, стерляжья ловля канатами[12], посмотрите вы, пожалуйста, ныне на этот промысел, – грош ему цена! Бьется мужик целое лето и в десяток канатов едва добудет на пятьдесят рублев дряни, костюшки. Да мы этакую стерлядь в прежнее время и не брали; коли попалась менее шести вершков, мы ее обратно в воду бросали: пусть подрастет. А ноне какая не попадись, все добыча, все идет в продажу рыбинским кулакам да на пароходы. От того и стерлядь измельчала. Ноне что за стерлядь? Только слава что стерлядь, а на деле-то она хуже чеши: или мелкота, или волжская синюшка; шехонская то больно редко попадает. А волжская, что щепа! Ни виду в ней, ни вкусу. Шехонская – стерлядь толстая, цветом как куриный желтыш: свари из нее уху, поверху не то блески загуляют, а как растовым маслом покроется. Вот то стерлядь!
– Шексна-то не изменилась ведь, Павел Прокопьич, все то же, в таких же берегах течет, по тому же грунту, почему же стерлядь сделалась не та? Это ты что-то не ладно говоришь, – возразил я.
– Не горазд я, батюшка, пустяки молоть, говорю вам по правде, что шехонская стерлядь далеко хуже стала и доскональная тому причина есть: стерлядь – рыба робкая, любит затишье, потому и ходи свои держит больше по глубоким местам. Как начали на Шексне бегать пароходы да будоражить воду, вот и сбили ее со станов, теперь она нигде себе приюту не находит. Особенно цепные[13] ее допекают: идет с шумом, с грохотом, цепи звякают, звонят и поверх воды, и в самой воде, и на дне звонят, потому со дна поднимаются, так всякая рыба как бешеная бросается в разные стороны. Где ж тут стерляди жиру набраться: она каждую минуту в беспокойстве, все мечется, все на ходу, потому – тонкая, а не жировая, как допреж того было. Ну слыханное ли дело в прежние годы, чтоб стерлядь по маленьким реченькам держалась, да сроду этого не было, а теперь смотрите-ка: в Согоже, в Глухой, в Искре и разных Шехонских притоках стерлядь проявляться начала, значит, ей жутко пришлось – вот почему она и во вкусе изменилась. Прежде зайдет стерлядь с Волги, обживется в Шехне, питанье ей диковинное: одна метлица пища отличная, она и зажиреет, а теперь ей совсем недомовито стало: все она в тревоге, некогда ей чередом заправиться, оттого бледна и тонка. Я не говорю, чтоб совсем хорошая стерлядь сгинула: попадается и теперь, да редко.
– Ну, положим, стерлядь худа сделалась на вкус, почему же ее меньше-то стало, Савел Прокопьич?
– А все потому же, батюшка – те же все пароходы и цепные ей вредят: стерлядь, как и налим, нерестится в реке, на луга она не выходит, это не то что щука, али язь и прочая белевая рыба: та бросать икру идет на водополь, в тихие, укромные места; для стерляди же в самой реке глубокие плеса на это дело требуются и чтоб тоже тихо, спокойно в них было, а какой теперь у нас на Шехне спокой, коли с самой ранней весны, еще берега не обрежутся, пойдут свистать пароходы и туера цепями зазвякают; рыба в тревоге, она повыбросает икру кое-как; много ее так и пропадет без плода, потому молочники, самцы значит, не смогут в перепуге оплодотворять ее чередом. Вот вам и причина, почему стерляди меньше стало. К тому же рыбаков размножилось, да и рыбаков-то таких, кои позабыли обычай стариков – бросать малую стерлядь обратно в воду. Теперь что ее, мелочи-то, переведут, страсть! Мы этого не делали, мы доводили стерлядь до меры[14], а в мерном-то возрасте она уж плодиться может. Вот вам и другая причина.
– Хорошо, положим, так. Ну а от чего меньше стало белевой-то рыбы, Савел Прокопьич?
– А меньше же, батюшка, куда против прежних годов меньше, и сравнить нельзя, какое во всем умаленье стало, что в рыбе, что в дичи и в звери тоже. Вот вы, изволите знать, рядом с вашим Кершиным – лог на берегу, выройка. Как только тронется лед на Шексне, лещи, язи, щука и сорога крупная в нее и бросятся, потому в реке шум от ледяного стора, а в выройке затишье и вода чище. Мы – неводами. Так в прежнее время, как бы вы думали, меньше ста лещей из этой выройки не уваживали, да какие лещи-то, как заслоны: фунтов по десяти, а теперь штук десяток, много полтора попадет – вот вам и вся добыча. Теперь опять насчет заплетов[15] сказать. Все здешние окольные деревни: Воятицы, Березово, Кривое, Бороть, Лутошник, Ерусалим – поголовно ловили заплетами и не знали, куда девать рыбу: на целое лето насаливали щучины, судаков, окуней про свое продовольствие и в продажу; язя, леща и всякой белевой рыбы шло дюже много – и по помещикам, и на проризные рыбинским скупщикам. А ноне и заниматься то этой ловлей не стоит: снастей не окупишь. Дай бог, в весну рублев на десяток нарыбачить: совсем бескорыстное дело, потому немного и охотников осталось теперь на эту ловлю – бросили! А что налима лавливали на чарту[16] переметами, уму невообразимо: кроме продажи целые кадушки одних печенок да молок насаливали рыбаки про себя: и этой ловле пришел теперь конец – вот уж года четыре, как и я ее пошабашил, потому не стоит: на четыре, на пять концов привезешь за утро шесть, семь налимчиков по фунтику: какая это ловля? Плевое дело эта ловля! Сильное умаленье в рыбе стало, батюшко, сильное.
– А помнишь, как в прежнее время на метлицу рыба-то удилась, Савел Прокопьевич?
– Что говорить, помилуйте! Да этого времени, бывало, целый год с нетерпением дожидаешь. Как только чертеж появится – язков понаделаешь, заплави приготовишь, переметы изладишь; и как падет метлица, так недели полторы с реки и не сходишь, так все и ловишь рыбу то на уду, то переметами. Ваш батюшка куды какой охотник бывал на эту ловлю: днюет и ночует на язке, и кушать и чайку, бывало, принесут ему туда; ну, да и то сказать, занятно: как начнется клев, так только успевай таскать – рыба все крупная: заходит на уде точно добрый конь на корде, душа замрет!.. Вытащишь, бывало, язища, страх посмотреть, как поросенок добрый, фунтов десять, двенадцать весу. По четырнадцати фунтов лещей доводилось выуживать. Помню я, годов двадцать тому, удил я с вашим батюшкой около Кертина: он на том берегу, я на этом. Язок у меня сделан был на глубоком месте, и приступила ко мне язовина, поверите ли – таскать не успеваю. Сперва удил на две уды, дошло до того – на одну начал удить – подсекать не успеваешь, только бросишь – цоп ко дну! Смотришь – язина фунтов шесть, поволок… а у другой удочки тоже поплавок скрылся – не знаешь, что и делать. И как бы вы думали: с самого раннего утра до позднего вечера такой клев держался, маковой росинки в рот не попало, ни пивши, ни евши весь день просидел на язке, не отрываясь от уженья. Наудил я в тот день более восьми пудов все язовины, а что посрывалось – счету нет. Крупных больно не было, однако фунтов по восьми штучки провертывались, но немного: все больше ровной язь – фунта на четыре, на пять. Меньше трех тоже ни одной штучки не было. Так вот, батюшко, каково в прежние годы уженье-то бывало на метлицу, ноне и это покончилось по милости пароходов – язков делать нельзя стало: не удержишь – волной повыкачает. Изволили заметить, какую пароходным ходом волну расстилает на берег: аршина на два катает она по заплесну. И метлицы у язка от этой волны тоже не сохранить: всю повыбьет, да и рыба с пароходством перестала держаться у берега. Как штук пятнадцать этих фыркунов пробежит в день-то, какое тут уженье! Вот я и довел вас до местечка: садитесь к ивовому-то кустику, а удочку забрасывайте на струйку: сорожняк тут станует и язишки малым делом водятся, окунь опять изредка берет: забрасывайте-ко благословясь.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Спень – сон, особенно в выражении: пéрвый спень, спень спнём хόдит, т. е. «ходит, как во сне».
2
Ботник – челнок, маленькая лодочка – долбянка.
3
Большой хвойный лес со множеством моховых болот.
4
Иди сюда! (искаженное фр.)
5
В пришексненских местах молодых уток и молодых утят бьют острогою, несколько похожею на острогу, употребляемую при лужении рыбы.
6
То же, что дудуник лесной, травянистое растение из семейства зонтичных.
7
В 1854 году свинец был 25 коп. фунт по случаю войны.
8
Мешок для дичи, заменяющий ягдташ, в нашей стороне называется торбою.
9
«К токующему глухарю ранней весною можно подходить из-за дерева, и даже по чистому месту, соблюдая ту осторожность, чтобы идти только в то время, когда он токует, и вдруг останавливаться, когда он замолчит; весь промежуток времени, пока глухарь не токует, охотник должен стоять неподвижно, как статуя». С.Т. Аксаков. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии.
10
Жерех. Aspiux тарах.
11
Уженье на метлицу производится не на донную удочку, а с поплавком.
12
Ловля стерлядей снастями, известными под именем канатов, употреблены только на одной Шексне. Приготовляются из верченых или крученых черемуховых ветвин в три пряди канаты, длиною от 40–45 саженей. Они вьются посредством деревянных барабанов с одного конца и деревянных крюков, закручивающих отдельные пряди – с другого. На глубоких местах Шексны, исстари известных рыбакам по стерляжьему ходу, закидывается канат следующим образом: один конец каната прикрепляется к берегу, другой, с деревянным якорем о трех рогалях, между которыми для груза опутаны каменья, завозится в реку и погружается на дно так, чтобы линия по направленно каната составляла к берегу прямой угол. Затем на черемуховых же поводках, скрученных только в две пряди, прикрепляются к канату ветвиняные кужи, т. е. большие с горлами кувшины, сплетенные редкою вязью из ивовых тоненьких прутиков. Таких куж навязывается на канат не менее шести и не более восьми штук, на двухаршинном друг от друга расстоянии. В каждую кужу для груза кладется по полукирпичу. Быстриною течения кужи пристилаются по дну реки очень плотно, и стерлядь, стремящаяся, как и всякая другая рыба, в своем ходе против течения, заходит в кужи. Канаты смотрятся каждый день с лодки посредством перебора через корму.
13
Туера.
14
Стерлядь от шести вершков и выше считается мерною, мелочь ниже шести вершков – межумерок. Мелкая стерлядь продается на Шексне от 40–60 коп. за десяток.
15
Весною, в разлив ловится по Шекснинской долине рыба в заплети, которые устраиваются следующим образом: с осени приготовляются из тонких прутьев, по береговым откосам речек и ручьев, в логах и полоях, в плоскодонных оврагах, долочках и перевалах, на всех известных ходовых местах, особого рода огороды или плетни, располагаемые в форме ломаной линии, в каждом изломе которой оставляются определенной величины ворота. Как только разольется вода и начнется ход рыбы, в ворота заплетов ставятся кужи, особого рода с горлом мережки, натянутые на ветвишный остов. Ломаная линия заплета дозволяет расставлять кужи в ту и другую сторону отверстиями, так что с которой бы стороны ни шла рыба, она непременно должна попасть в кужу.
16
Начиная с конца августа месяца вплоть до заморозков ловят на Шексне налимов перелетами, наживляя их маленькими лягушками, которых называют чеправами. Каждый отдельный перелет, состоящий из 100–120 крюков, называется концом.