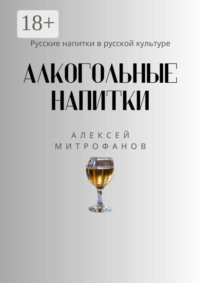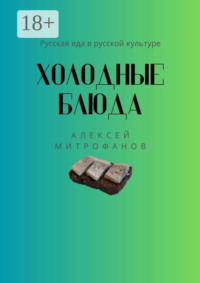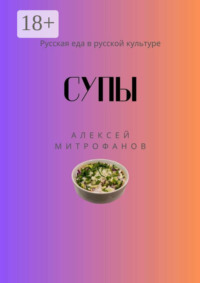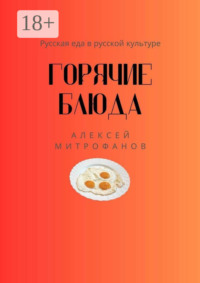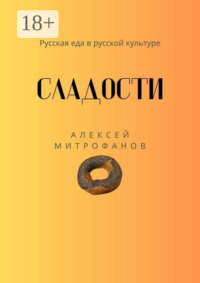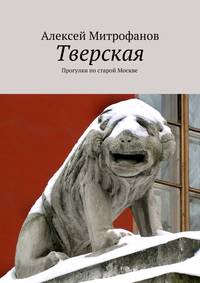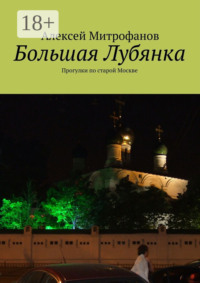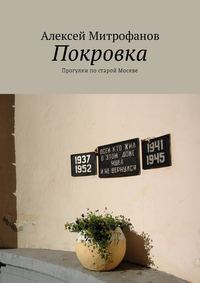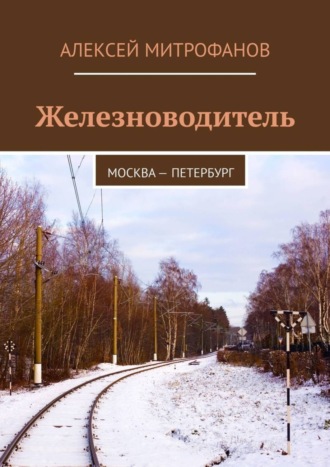
Полная версия
Железноводитель. Москва – Петербург
Был праздник – и поэтому кладбищенская церковь была полна народа. Бесконечно долго читали поминанье после сугубой ектеньи. Тетя предложила нам сесть отдохнуть, но мы сказали ей, что выйдем ненадолго из церкви и погуляем где-нибудь поблизости. Тетя отпустила нас, сказав, чтобы мы никоим образом не уходили далеко. Тетя слышала, что на глухом загородном кладбище иногда скрываются босяки и беглые. Она рассказывала нам про бывший с ней случай, очень напугавший ее. Раз она углубилась в отдаленные места кладбища и встретилась там со священником. Каковы же были ее удивление и испуг, когда священник этот вдруг бросился от нее бежать, и при этом она заметила, что борода у него привязная. Тетя была уверена, что это был беглый каторжник. После этого случая она не уходила уже далеко в глубь Пятницкого кладбища. Но мы смеялись над страхами тети, не верили привязной бороде и были бы рады, случись с нами такая необычайная встреча».
Впрочем, несмотря на все эти события, Пятницкое кладбище считается, да и всегда считалось вторичным, если не третичным в городе Москве. Исследователь А. Саладин описывал его в таких словах: «Пятницкое кладбище удобно соединено с городом трамваем, останавливающемуся у Крестовских водонапорных башен. За ними надо только пройти мост через линию Николаевской железной дороги и спуститься вниз, где в ограде устроена боковая калитка.
Кладбище не может похвалиться благоустройством. Расположено оно в какой-то мрачной низине, заросшей лиственными породами и густою травою. Дорожки неровны, вымощены кирпичом, узки и неудобны для ходьбы. К некоторым памятникам невозможно подойти – так много здесь всяких оград и решеток. Часто попадаются даже двойные ограды: памятник окружен небольшой решеткой, а та заключена в более обширную ограду».
Недалеко за кладбищем, через огороды, видна Сокольничья роща, а близ церкви торчат безобразные вышки и трубы заводов, отравляющих, воздух зловонием.
Как ни удобно сообщение, а Пятницкое кладбище посещается слабо. Между тем здесь есть могилы таких людей, к которым должны быть отнесены слова Некрасова:
Но это будет, если только будет, в то гадательно отдаленное будущее, когда наш народ
А пока не только лапти народные, но и городские сапоги не проторили тропы на Пятницкое кладбище, где погребены Т. Н. Грановский, И. З. Суриков, М. Н. Щепкин, А. И. Урусов».
Сегодняшний день в этом плане ничего нового не принес.
Вам же не праздно, друзья благородные,Жить и в такую могилу сойти,Чтобы широкие лапти народныеК ней проторили пути…Белинского и ГоголяС базара понесет.
Останкино
Следующая станция – Останкино. Известное своим дворцом, своим прекрасным парком и своею телебашней. Впрочем, по порядку.
При Иване грозном это место носило гордое название сельца Осташкова. Он отдал это «сельцо» некому Александру Сатину, после чего оно пошло менять хозяев вплоть до 1743 года – когда до самой революции сделалось собственностью графов Шереметевых.
По большому счету, в этом комплексе три главных достопримечательности – общедоступный парк, действующая церковь и музей, размещенный в здании дворца-театра. Сам же театр, совмещенный с дворцом Николай Петрович Шереметев построил для своей возлюбленной, а впоследствии супруги, крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой. Он был оборудован самой передовой для конца восемнадцатого века машинерией – залом-трансформером, звукоподражательными машинами и так далее. Увы, довольно скоро Шереметев овдовел, однако же театр продолжал функционировать.
Вторая половина девятнадцатого века – и Останкино, как, впрочем, большинство московских «загородных» превращается в дачный поселок. Художник Коровин писал: «Останкино под Москвой – место дивной красоты. Около дубового леса был Панин луг и мелколесье. В небольшом деревянном доме взяли комнату за три рубля в месяц.
Утром писали с натуры – весна, солнце, дубы только распускались, их светлые стволы покрыты пятнами темного, как плюш, моха, весело сияло голубое небо».
Кроме Коровина в той «дачной» экспедиции участвовал художник Левитан.
А Александра Рамазанова – дочь скульптора Николая Рамазанова – писала: «Летом мы жили на даче в Останкине, имении графа Шереметева под Москвою, где был великолепный дворец, выстроенный архитектором Аргуновым, крепостным графа. По взаимному уговору все близкие наши знакомые снимали дачи в Останкине… Сообщение с Москвой было на извозчиках „в пролетках“».
Можно сказать, что дачное Останкино было богемным местом.
В советское же время эту местность, пусть не надолго, но переименовали. Останкино вдруг превратилось в Пушкинское. Но здравый смысл все таки восторжествовал.
А над дворцом и парком возвышается Останкинская телебашня. Ее построили в 1967 году по проекту конструктора Н. Никитина – мощности первой, Шуховской башни к тому времени явно не хватало. Высота этой башни – 533 метров, и на протяжении долгого времени она считалась самым высоким сооружением в мире. Вес башни – 51 400 тонн, глубина фундамента – 4 метра, а диаметр основания – 20 метров. Тем не менее, башня не падает.
Башня была одним из символов прогресса. Для того, чтобы народ приобщался к символу не только сквозь экраны телевизоров, на башне соорудили смотровую площадку и ресторан «Седьмое небо». Правда, смотровая площадка вышла скучноватой – вокруг одни плоские крыши новостроек и промзона, смотреть абсолютно не на что, а в ресторане сделали «комплексное обслуживание» – посетителям приходилось выбирать из нескольких готовых вариантов обеда и ужина, что значительно снижало собственно гастрономическую ценность заведения. Но главным здесь, конечно, был аттракцион – подняться по сверхскоростному лифту на невиданную высоту, а потом всем про это рассказывать.
Петровско-Разумовское
Петровско-Разумовское в первую очередь известно благодаря Московской сельскохозяйственной академии имени К. Тимирязева. Главное здание ее было построено в 1863 году по проекту архитектора Н. Бенуа. При этом из Финляндии выписали уникальные выпуклые оконные стекла. Некоторые из них сохранились и представляют своего рода отдельный архитектурно-индустриальный памятник. Ясное дело, окна были достопримечательностью с самого начала существования академии. Недаром В. Г. Короленко в повести «Прохор и студенты» писал, прозрачно зашифровывая академию: «Выселки, где проживал Прошка, находятся под Москвой, в соседстве с одним высшим учебным заведением. Заведение это, с дорогими выпуклыми стеклами, с „дворцом“, с музеями, лабораторией и парком, раскинулось над широким прудом, ближе к Москве. Выселки скромно отодвинулись на другой берег пруда, спрятавшись среди жидкого ельника».
Достаточно же было одних «стекол» – и сразу же все становилось понятно.
Ранее на этом месте находилась усадьба Разумовских, и, когда формировалась академия, некоторые здания сносились, а некоторые, наоборот, использовались для новых нужд. Главное здание построили с нуля, а находящийся рядом, в торце Тимирязевской улицы «Лесной кабинет» (ныне кафедра Лесоводства) – ни что иное как старый эрмитаж. Сначала в нем устроили столовую для слушателей (при том суп и хлеб раздавались бесплатно, с голоду не умирали даже самые малоимущие), а с 1879 года его стали использовать под научные нужды.
На месте памятника Вильямсу располагался храм Петра и Павла, что на Жабене. После революции его, естественно, закрыли, и устроили в сводчатых стенах большой винный магазин. А затем храм снесли.
Кстати, самое яркое событие, связанное с академией, ни в коей мере не относится к образовательному процессу. Это было ритуальное убийство, которое в 1869 году совершил ультраанархист Сергей Нечаев. Жертвой его стал студент Иван Иванов, который, примкнув поначалу к революционерам, впоследствии отказался выполнять приказы Нечаева. За что и поплатился – Нечаев убил его в одном из гротов при участии прочих смутьянов. Один из них, Николай Николаев писал: «Когда мы… подойдя к гроту, вошли в него, пропустив Иванова вперед, я пошел сзади Иванова, Кузнецов сбоку; последний крикнул:
– Господа, где вы? Из грота отвечали:
– Здесь.
Войдя в середину грота, я схватил Иванова сзади за руки; он стал вырываться; во время борьбы, происходившей молча, мы прислонились к стене грота. В это время Нечаев закричал:
– Где же он? – и схватил впотьмах меня одной рукой за лицо, стараясь зажать мне рот, а другой за горло.
Я принужден был выпустить Иванова и, освободив себя от рук Нечаева, закричал:
– Что вы меня душите, это я, Николаев!
В это время Иванов, вырвавшись от меня, побежал, к выходу; тогда Успенский закричал:
– Убежал, ловите!
Кузнецов схватил Иванова и повалил его у входа в грот. Тогда Нечаев, я и Успенский бросились на Иванова. Нечаев сел на грудь Иванову и стал его душить. Кузнецов сидел на ногах, а я и Успенский стояли около и ничего не делали. В это время Иванов несколько раз крикнул и сказал:
– За что вы меня бьете, что я сделал?
Нечаев выругал нас всех за то, что мы не помогали душить Иванова, и потребовал башлык, который я снял с Кузнецова и подал Нечаеву. Последний мне кричал»
– Души! – и я второпях стал искать шею Иванова, но схватил только за руку Нечаева, душившую Иванова, причем Иванов успел повернуться лицом к земле и довольно громко простонать.
Немного погодя он уже не кричал, но еще шевелился. Тогда Нечаев взял у меня револьвер и прострелил им голову Иванова. После этого Нечаев привязал к ногам Иванова каменья; я же привязывал к рукам, по от волнения привязать не мог, почему Нечаев стал привязывать сам, и где он их привязал – не знаю. После этого мы все стащили Иванова в пруд».
Преступление вышло, как сегодня бы сказали, резонансным. Московская интеллигенция потянулась к гроту проникаться атмосферой. На всякий случай грот снесли, но это не остановило поток экзальтированных паломников. Среди них оказывались знаменитости – Федор Михайлович Достоевский набирался здесь впечатлений перед написанием романа «Бесы», а другой писатель, Андрей Белый готовился тут к написанию романа «Петербург».
Бывали здесь, конечно, преступления и попроще. В частности, «Московский листок» опубликовал однажды маленькую информационную заметку: «В ночь на 20 июля, с канализационного поля Петровско-Разумовской академии, похищено четыре термометра для измерения температуры почвы, стоимостью 24 руб.»
Зачем таинственному злоумышленнику понадобилось столько градусников, в общем-то, понятно – на продажу. Вопрос – как именно он их реализовывал.
Другой преступник утащил 13 горшков с пальмами и прочими не маленькими, в общем-то растениями. И таких историй было множество.
Отдельная история – визит «великого князя». В один прекрасный день приставу Петровско-Разумовской части позвонил человек с властным голосом, представился начальником Дворцового управления и заявил, что в академию на прогулку инкогнито едет великий князь Иван Константинович.
А затем сам приехал под видом великого князя – погулял, неплохо пообедал, денежек стрельнул. После его, как ни странно, нашли, но история на этом не закончилась. Когда спустя несколько дней в Петровско-Разумовское собрался главноуправляющий землеустройством и земледелием, об этом тоже предварительно сообщили в полицию по телефону. И надо же было тому случиться, что трубку снял все тот же самый пристав. Он облаял звонившего отборнейшим матом – и в результате получил серьезное взыскание и понижение в должности.
А главным видом транспорта, которым пользовались москвичи, чтобы добраться до любимой академии, был так называемый паровичок – нечто среднее между трамваем и паровозом. Рельсы, локомотивчик на паровой тяге, несколько маленьких вагончиков, вечернее освещение – свечи. Одно время на паровичке служил кондуктором К. Паустовский. Он описывал этот период своей жизни: «Это была самая легкая, а на кондукторском языке – самая «дачная» линия в Москве.
Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, электричества на «паровичке» не было.
Я работал на этой линии осенью. Быстро раздав билеты, я садился на открытой площадке и погружался без всяких мыслей в шелест осени, мчавшейся по сторонам «паровичка». Березовые и осиновые рощи хлестали в лицо сыростью перестоявшегося листа.
Потом рощи кончались, и впереди вспыхивал всеми красками увядания великолепный парк академии. Золотое молчание стояло в нем. Громады лип и кленов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень по разнообразию и обдуманности раскраски была подчинена воле и таланту человека. Этот парк был посажен знаменитыми нашими ботаниками, мастерами своего дела».
В 1922 году паровичок был упразднен. Правда, одна из станций сохранилась – ныне это трамвайная остановка «Красностуденческий проезд».
Атмосфера в академии была, конечно, уникальная. Один из постоянных гостей вспоминал: «Поездки в Петровско-Разумовское, особенно в летнее время, были очень приятны, а радушие хозяина и хозяйки – еще больше. Дом, какой отведен был для профессора богословия и в то же время священника академической церкви, был большой, с довольно большим садом, в котором было немало ягод. Мы гуляли и по академическому саду, купались в студенческой купальне, катались по огромному пруду на лодках, а потом, по обычаю, садились играть в преферанс или в винт в компании некоторых профессоров академии, при постоянном участии ближайшего друга Н. А-ча Елеонского, академического врача Кондакова. Народ этот был чрезвычайно хороший, добродушный и веселый; играли мы по „маленькой“, и все, конечно, смотрели на игру исключительно как на способ весело провести время и отдохнуть от работы. Помню, как однажды я пенял проф. М. К. Турскому за то, что он очень плохо разыграл какую-то игру, прибавив при этом: „Ну, Митрофан Кузьмич, хоть бы вы немножко подумали, с чего ходить!..“ – и как он ответил мне: „Да что вы? Думать-то мне и дома за приготовлением лекций надоело, а я играю для удовольствия. Вот еще, стану я себе над картами голову ломать!“»
И, конечно же, не обошлось без дач. Одну из них описывал Владимир Гиляровский: «Дача Бренко находилась в Петровском-Разумовском, у Соломенной сторожки. Тогда еще даже конки туда не было. Прекрасная дача, двухэтажная, богато обставленная. По субботам всегда гости: свои артисты, профессора, сотрудники журнала «Русская мысль», присяжные поверенные – товарищи Левенсона.
Между чаем и ужином – карт в этом доме не было – читали, Василий Николаевич Андреев-Бурлак рассказывал, М. Н. Климентова, недавно начавшая выступать на сцене и только что вышедшая замуж за С. А. Муромцева, пела».
Простота нравов долго еще сохранялась в этом образовательном учреждении. Один из выпускников описывал события 1935 года: «Однажды, возвращаясь из очередного безрезультатного посещения Наркомпроса, я увидел на проходящем трамвае надпись „Тимирязевская академия“. На ходу вскочив в трамвай (автоматических дверей еще не было), я поехал в академию. В приемной комиссии я взял бланк анкеты, и – к моему удивлению – в анкете не было пункта о социальном происхождении! Очевидно, тогда еще формы этих анкет в разных системах не были унифицированы. Я подал заявление со всеми документами, успешно сдал вступительные экзамены и считал себя уже студентом. Но оставалось еще собеседование… Когда пригласили меня и взяли мои документы, я счел нужным обратить внимание на отсутствие в анкете пункта о социальном происхождении. Но в приложенной автобиографии у меня указано, что я правнук Тютчева, следовательно, дворянского происхождения. Уже наученный своим небольшим жизненным опытом, я боялся, чтобы потом меня не упрекнули „в сокрытии“ моего прошлого. Как потом оказалось, я был прав. После моего заявления комиссии меня попросили покинуть зал и подождать в приемной. Ждать пришлось довольно долго, пока не пропустили всех „чистых“, а затем уже стали при закрытых дверях рассматривать дела „нечистых“ – вроде меня, которых набралось всего три-четыре человека. Наконец меня снова позвали в зал, из-за большого письменного стола поднялся директор, протянул мне руку и сказал: „Поздравляю вас, вы приняты в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию“».
Сергей Нечаев к тому времени считался положительным героем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.