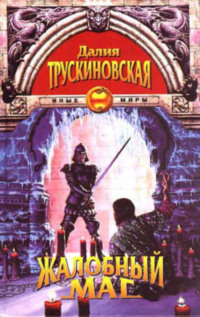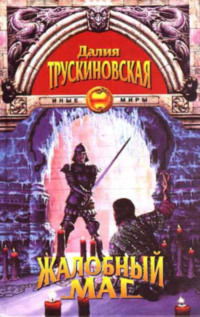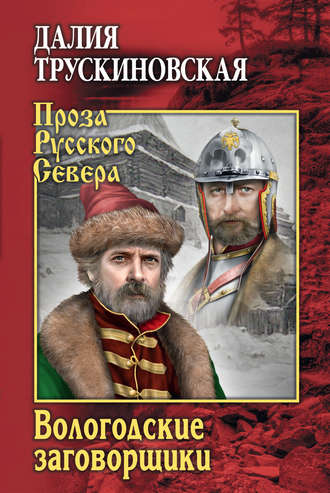
Полная версия
Вологодские заговорщики
Отроком Гаврюшка был обыкновенным, в меру ленивым, в меру шкодливым, любителем медовых пряников, левашей, пастилы и прочих сладких заедок, удачливым игроком в свайку, причем метал в кольцо не палочку с заостренным кончиком, а самый настоящий ножичек-засапожник. Кидать ножи детям запрещали – старшие сердито рассказывали, что был-де маленький царевич Митенька да, играя в свайку, на ножик свой напоролся и помер. Так то – малым детям, не отрокам, которые через год-другой пойдут на службу в приказы. Ножичек свой Гаврюшка выменял сложным и не совсем честным путем. Дед и мать о нем не знали.
Засапожник был хорошо спрятан в щели за лавкой, и Гаврюшка первым делом подумал: непременно нужно взять это оружие с собой, да так, чтобы старшие не заметили.
Дочки Деревнина, Аннушка и Василиса, красавицы-близняшки, тоже переполошились из-за своих сокровищ. Обеим – пятнадцатый годок, обе, считай, невесты, и сваха Марфа осенью заглядывала в гости к Авдотье Марковне – посидеть, выпить горячего сбитенька, закусить пирогом, полакомиться редкой в нынешней Москве пастилой, потолковать, кто на ком венчаться собрался, опять же – кремлевские новости обсудить. О женихах пока речи вроде и нет, но обе, сваха и мать, к разговору были готовы, а уж Аннушка и Василиса, что подслушивают за дверью, – тем паче.
Замуж им очень хотелось. Понимали, что так рано их не отдадут, еще год, а то и поболее, в девках маяться, но кто запретит исподтишка поглядывать на статных молодцов? Из-за одного чуть девичья драка не случилась: вот на кого он в церкви поглядывал и подмигивал, крутя ус, на Аннушку или на Василисушку?
Но Марфа уж который месяц носу не казала, жива ли, нет ли – неведомо.
Внучки, Дарьица и Аксиньица, подняли рев – и им много чего хотелось взять в дорогу. А сани-то невелики, в первых поедут сам Деревнин с женой и дочками, во вторых – Настасья с Гаврюшкой и дочками. И сколько же там останется пустого места для узлов и коробьев?
Умнее всех оказалась Авдотья Марковна.
– А третьи сани негде, что ли, раздобыть? – спросила она мужа. – Спосылай Антипа к Смолке, у Смолки непременно есть.
– Сани добыть можно, где возника взять?
– За деньги и возника сыщем.
– Времени нет.
– Отпусти меня, Андреич, к ранней обедне, глядишь, раздобуду.
– Возника – в Божьем храме? – Деревнин, обычно хмурый, даже рассмеялся. – Слыхал я, что на Флора и Лавра коней к церквам приводят и молебен служат, чтобы им благословение получить. Так то, кажись, в Успенский пост. И не в церковь же их заводят.
Но жену к ранней обедне он отпустил. И то – сколько же можно сидеть дома безвылазно? И храм Божий вроде не так уж далеко. И перед дорогой хорошо было бы службу отстоять. Только велел одеться в смирное платье да вынуть из ушей дорогие висячие серьги. Но, поскольку бабе в нынешнее время опасно выходить из дому одной, он послал с ней ключницу Марью и мамку внучек, Степановну.
Авдотья Марковна шла замуж не по любви, а родители приказали. Любила же она всей душой соседа, Никиту Вострого, и он ее любил, и даже летом в саду тайно встречались и целовались. Убежала бы Авдотья к Никите, но его в то время в Москве не случилось – он с царским посольством уехал невесть куда, к хану Тевеккелю, принимать того со всем его народом в русское подданство. Вернулся – а на любушке уже бабья кика…
После того они ухитрялись встречаться. Грешить – не грешили, а так – недолго поговорить в закоулке и рукой руки коснуться. И то уж – счастье! Никите высватали богатую невесту, женили его, а все равно тянулся к Авдотье, и она к нему тянулась.
Деревнин жену не обижал, но и не слишком баловал. Только порядка в делах требовал – такого, какой расписан в «Домострое». Ключница Марья вместо свекрови приучала ее к хозяйству; хорошо, жена подьячему попалась сообразительная, научилась дешево и в срок покупать припасы, сама возилась на поварне, помогая стряпухе Нениле. Невестку Деревнин к закупкам не допускал, держал в строгости, за ворота выйти – только со старшими, на ней лежала вся тряпичная казна – что залатать, что сшить, и работы хватало – дети растут быстро, из рубашонок своих вырастают – хоть каждый месяц новые шей. И она же, Настасья, учила Аннушку с Василисой тонкому рукоделию.
Жили мирно, многим на зависть. Только была в семействе некая ревность: Авдотья ревновала мужа к внукам. Она полагала, что ее дочек нужно в первую голову наряжать, а не книги Гаврюшке покупать. И до того даже дошла, что стала следить за невесткой Настасьей: баба-то еще молодая, в ее годы жить без мужа тяжко, а она и не думает свах привечать, стало быть, есть у нее кто-то… Сыскался бы тот «кто-то» – и донесла бы о нем Авдотья мужу, и кончилось бы его благоволение к невестке. Но Настасья себя блюла, много занималась дочками и рукоделием.
Авдотья, хоть всю ночь и собиралась в дорогу, не ложась, пошла к ранней обедне. Она знала, в котором храме могла встретить мамку Никиты, Анну Петровну, – в Харитоньевском. Той полюбилась недавно срубленная деревянная церковь – служивший там батюшка доводился ей какой-то дальней родней, и она любила после службы заглянуть к попадье, матушке Марфе. Анна Петровна, вторично овдовев и не сумев найти третьего мужа, сделалась богомольна, что не мешало ей посредничать при тайных встречах питомца с Авдотьей. В свое время она очень хотела, чтобы они повенчались. Да и теперь рассуждала так: Деревнин не вечен, ему седьмой десяток, Никитушкина Анна хилых деток рожает, не живут они, да и только. Коли бы Анна согласилась мужа освободить и в девичьей обители постриг принять, то дельце бы и сладилось. И не беда, что Авдотья уже двух дочек родила. Обе – здоровенькие, значит, и новому своему мужу тоже здоровых нарожает.
Анна Петровна уже намекала на это Авдотье и даже имела с ней беседу о тайных женских делах. Жена подьячего не совсем прямо, но призналась: не было в последние годы той причины, от которой дети родятся. Конечно, слукавила: причина случалась, хотя и редко. Да и не желала она еще детей от Ивана Андреича – вот от любезного Никитушки хоть дюжину бы родила…
До Харитоньевского храма было недалеко – Деревнины жили тут же, в Огородниках, перебрались подальше от Кремля и Китай-города, когда Ивану Андреевичу пришлось оставить приказ.
В храме Божьем Авдотья сразу прошла налево, на женскую сторону, а у Анны Петровны там было любимое местечко возле канунника. Народу с раннего утра набралось много – время такое, что польские безобразники еще спят, так можно выйти из дому без опаски. Авдотья сумела так замешаться в толпу, что оказалась рядом с Анной Петровной и шепотом ей все обсказала. Та побожилась, что сразу передаст питомцу, а уж что он предпримет – того она знать не может. Но заметила, что Никитушка о своей былой любе сильно беспокоится и будет рад, коли она с Москвы съедет, хоть бы и в Вологду.
Молитвы, какой она должна быть, в то утро у Авдотьи не получилось. А, вернувшись домой, села она за разоренный столик, где уже не было зеркальца, и задумалась: хороша ли еще собой? Румянец навести недолго, очи насурьмить она умеет, но, если будет милостив Господь и вернет ей Никитушку, не разочарует ли его Авдотьино бабье тело? В меру в нем дородства, и грудь крепка, и серые глаза все еще хороши… и руки горячи, а это также много значит… и косы!..
Косы Авдотья берегла, туго не плела, мыла в отварах трав. Давным-давно старая нянька научила: в длинных волосах кроется великий соблазн.
Хорошо было бы сейчас велеть истопить мыльню. Путь долгий, когда сумеешь умыться толком – одному Богу ведомо. И дочкам велеть вымыться впрок…
Но муженек от такой затеи онемел: какая еще мыльня?.. Муженек сам рыл в погребе яму, чтобы спрятать добро, и любимое свое ненаглядное узорное изголовье – первым делом.
После ссоры Авдотья пошла жаловаться Настасье. А той было не до жалоб – следовало всю детскую одежонку поплотнее увязать, да и свою тоже: когда еще на новом месте появятся деньги, чтобы принарядиться. И она же, Настасья, всех усадила за работу – чинить подбитые мехом чулки. Без них зимой в санях нельзя.
Но случилась и радость – когда уже смеркалось, сторож Антип вызвал Авдотью во двор.
– Вот возника с санями мужик привел, – сообщил он. – Кто таков – не сказался. Велел тебя покликать.
– Ах!.. – И Авдотья залилась румянцем. Отрадно было знать, что милый так скоро отозвался на ее нужду.
Накинув на плечи шубу, она помчалась к тому замечательному мужику, чтобы сказать: благодари, мол, того, кто тебя послал, да скажи – ввек его не забуду и встречи ждать буду!
Крепкого вороного возника ввели во двор, а за санями шел человек, которого Авдотья бы признала, даже когда бы он явился в святочной харе и тулупе мехом наружу. Сейчас же он был всего-навсего в войлочном колпаке до бровей и армяке, таком грязном, будто его десять лет не чистили.
– Ахти мне… – прошептала Авдотья, и стало ей страшно: милый проститься пришел, не постеснялся явиться на двор Авдотьиного законного мужа, и броситься бы ему на шею, да нельзя, нельзя, и грешно, и люди смотрят.
Она быстро подошла к саням, Никита шагнул навстречу.
– Любушка моя, – сказал он. – Бог даст, еще увидимся. Коня там, в Вологде, продайте. Корм для него – в санях. А еще к тебе просьба.
– Все для тебя исполню, мой свет…
– Когда с Божьей помощью приедете, первым делом надобно молебен отслужить. Сделай так, чтобы в Успенском соборе, что в самом Насон-городе. Или же сама как можно скорее до него добеги. Вологда невелика, добежишь быстро. Там спроси певчего Матвея и отдай ему грамотку…
Оглянувшись, не видит ли кто, Никита вложил в руку Авдотье туго свернутые и окутанные сперва лубом или берестой, а поверху холстинкой столбцы.
– …и скажи – для Ивана. Запомнила?
– Запомнила, а что за грамотка?
– Грамотка из Посольского приказа. Дело тайное, никому не сказывай и не показывай. Гонца посылать, как в старину, – не доедет, на дорогах шалят. А вы поедете целым обозом, при нужде отобьетесь.
Авдотья держала сверточек, Никита все еще его из правой руки не выпускал, а потом и вовсе, позабыв всякий страх, накрыл обе их руки одной своей, левой.
И это было более, чем то, что случалось между Авдотьей и Иваном Андреевичем, когда она по его слову покорно снимала с шеи нательный крест и ложилась на кровать; с крестом-то – грех, а без него – все благообразно.
– Жить без тебя не могу, – прошептала Авдотья.
– Да и я…
Так они и стояли, двое грешников, и вдруг опомнились, и Авдотья, покраснев, как девка на выданье, кинулась прочь и налетела на Антипа.
– Антипушка, родненький, распряги возника, – сказала она. – Задай ему корма, в санях мешок с овсом, сено.
– Откуда такой красавец? – спросил Антип.
– Мир не без добрых людей. Крестный мой прислал, – соврала Авдотья, зная, что никто не побежит искать этого крестного у Никитских ворот.
Деревнин задал тот же вопрос. И получил тот же ответ.
Стали думать: кого брать с собой, кого оставить на Москве. Ключница Марья решила, что пойдет жить к двоюродной сестре. Стряпуха Ненила решила поселиться у замужней дочери. Мамка Степановна могла пригодиться на новом месте – она работы не боялась. Сенная девка Феклушка также – да и нельзя ее, дуру, одну оставлять, пропадет. Антип должен был править вороным возником. Больше дворни у старого подьячего теперь не было.
Оставалось только снести во двор коробья с узлами да заколотить двери и окошки.
Маленькие внучки с перепугу даже не плакали – жались к матери. Аннушка с Василисушкой всплакнули – им было страшно. Гаврюшка храбрился и обещал перестрелять всех налетчиков из пистоли, которую только этим вечером и выучился заряжать.
Ждали во дворе чуть ли не до третьих петухов. Беспокоились, мерзли. Хорошо, нашлись в подклете две преогромные старые епанчи из толстого грубого сукна, в них закутали внучек и Василису с Аннушкой, одни носы торчали. Деревнин в длинной шубе и в войлочном колпаке, подбитом овчиной, расхаживал взад-вперед, время от времени пытая жену с невесткой: оловянные мисы не забыли ли, Николу-угодника в серебряном окладе хорошо ли завернули, и рукомойник, рукомойник медный! Не забыли со стены снять-то?!
Когда прибыли двое саней Мартьяна Петровича, семейство помолилось и, перекрестясь, двинулось в дорогу.
Глава 2
Семейство в раю
Обоз собрался в Красном Селе, несколько жителей которого, богатых купцов, тоже решили ехать в Вологду. Почтенный был обоз – пять десятков саней, при них два десятка молодцов на крепких конях, да каждый кучер вооружен и саблей, и плетью с зашитым в кончик кусочком свинца; уезжали из Москвы к новой жизни людно, конно и оружно. Везли жен, детей, стариков; везли товары, припасы, корм для возников; вели и дюжину заводных коней.
Ехали, дав порядочный крюк, проселками, чуть ли не волчьими тропами. Чуть что – молодцы хватались за оружие. Первый долгий отдых дали себе и коням в селе под названием Рогожа. А потом уж отдыхали в Ярославле.
Старый подьячий Деревнин был истинный москвич – то есть полагал Москву единственно достойным местом для проживания, а на прочие города глядел свысока, считая, что живут там по давней поговорке: в лесу родились, пню молились. О Вологде он знал очень мало, а его семейство – и того менее.
По дороге Мартьян Гречишников взял его в свои сани ради приятного разговора, а в деревнинские сани сослал свою глухую бабку, которая не понимала, за какие грехи ее тащат зимней дорогой через страшные леса.
Купец глядел на Вологду со своей, купецкой точки зрения. И, как полагается толковому купцу, помнил все, что могло мешать или способствовать торговле. Тем более Вологда считалась городом хлебным. В недавние голодные годы цена на хлеб подскочила здесь в несколько раз, но он все же был, хотя и пришлось подъесть все старые запасы.
– Вот толкуют – был-де покойный государь Иван Васильевич великий грешник, – говорил купец. – А в Вологде его чуть ли не за святого почитают. Город-то при нем благоденствовать стал. А все из-за английской торговли. Три судна послал английский король – или королева?.. Тремя судами английские купцы шли новые земли открывать, попали в бурю, одно уцелело, спаслось в устье Двины. С того пошла вся торговля! И они, англичане, через Вологду к нашему царю ездили, и он их великой милостью пожаловал – велел торговать в наших краях. И вот уж сколько годов каждое лето у Николо-Карельской обители их суда пристают, и к Новому Холмогорскому городку тоже идут. Там Архангельская обитель, вокруг нее поставлен острог, и там же пристань при нем. Бывает, до девяти зараз! А оттуда водой везут товары в Вологду, а из Вологды уже дальше. И отменные сукна к нам везут, и мы им свои сукна сбываем. И бархаты везут, и шелка, и тонкое полотно. Погоди, доедем, мешки и тюки развяжем – я твоим дочкам по семь аршин подарю.
– И долог ли путь? – спросил Деревнин.
– Ох, долог… Речка Вологда петляет, что твой заяц, и речка Сухона, в которую она впадает, не лучше. А иного пути летом нет – кругом болота да топи. Коли идти на струге – две недели. По зимнику можно за восемь дней добежать.
– А теперь англичане с нами торгуют?
– Вот то-то и оно, что друзья познаются в беде, – со вздохом ответил Гречишников. – Они нас не бросили. У них на Москве был свой двор, туда и товары свозили, всякий мог прийти, о дельце своем потолковать. У них служили отличные толмачи, да что толмачи! Когда кому выгода нужна, и по-китайски, и по-персидски заговорит. Сами английские купцы уже наловчились по-нашему объясняться. Иных детьми привезли, они у нас выросли, даже наше платье часто носят. А как иначе? Зимой в коротких кафтанишках не побегаешь, зимой длинный кафтан нужен и шуба до пят.
– А у них короткие, как у поляков? – полюбопытствовал Деревнин. Он, служа в приказе, англичан видел, но не приглядывался; к тому же у них хватало ума в холода надевать длинные шубы.
– Что поляки! У них кургузые кафтанишки и срама не закрывают! Как раз зимой все свое хозяйство поморозишь. Хотя… Иван Андреич, в Вологде я тебя насмешу – покажу англичанина в английских портах. Уж не знаю – шерстью их, что ли, набивают? Делаются круглые, вот такущие, плотные, ножом не проткнешь, сзади поглядишь – баба бабой! Прямо рука тянется ущипнуть.
– А для чего? – удивился старый подьячий.
– А их спроси. Портки, стало быть, вот по сих пор, а дальше – длинные чулки. Это, сам понимаешь, тоже не для нашей зимы. И обувка – вроде наших ичедыгов, легонькая, но с пряжечками, с ленточками. Ну да бог с ними, пусть хоть в персидском платье ходят, не наша печаль. Главное – они нас не бросили, не сбежали за море. А как впустили в Москву поляков, как стало видно, что от поляков нашей с англичанами торговле ждать беды, так они всем своим двором перебрались в Вологду. А Вологда, коли что, от поляков отобьется. Особливо теперь, когда все наши северные города – заодно и друг дружке могут помощь прислать. Прошло то время, когда поляков в города впускали! Еще царь Василий Иванович, когда в Вологде скопилось великое множество товара, оттого что купцы боялись везти его в Москву, велел воеводам все сделать, чтобы город оборонить. И тут английские купцы вместе с нашими вошли в совет, чтобы всем в этом деле быть заодно, и ратным людям, и нам, торговым, и городским головам.
– Немало англичан в нашем войске служит, – вспомнил Деревнин. – И немцев также.
Вот тут уже он мог рассказать Мартьяну Петровичу, как в пору, когда царь Иван Васильевич собрался Ливонию воевать и одерживал победы, было взято в плен немало немцев, служивших в польском войске, и им предложили перейти на службу к русскому царю, и они согласились.
– Когда с ханом Девлет-Гиреем воевали, от тех резвых немцев немалая польза была. Их посылали в тыл к ханским отрядам для особого промысла. Наши так ходить по вражьим тылам не были обучены, а эти – умели.
– Служба у них такая, – согласился Гречишников. – А что, и англичане тогда нашему царю служили?
– И эти у нас завелись. Только в приказных столбцах их писали: «немчины английской земли». Тогда для нас все, что не по-нашему лопочет, – немчин! Потом уж разобрались. А они, англичане, к нам попали случайно. Сам я при осаде Везенберга не был, мне тестев кум рассказал. Мы сидели в крепости…
И как же иначе сказать-то? Именно «мы».
– …А шведы прислали брать Везенберг войско, что навербовали невесть где. И оказались там природные немчины и те, кого мы тогда звали немчинами скотской или шкотской земли. Что ты хохочешь? Кум сказывал – сами себя они так звали. И вот те и эти немчины меж собой передрались, даже из пушек палили. Природные немчины оказались сильнее скотских, и скотские к нам в крепость перебежали. Вот как раз среди них были англичане. Тем осада и кончилась. А они стали служить нашему царю…
Беседа эта была приятна Деревнину уже и потому, что в последние месяцы он из лиц мужского пола видел только Гаврюшку и Антипа, служившего и сторожем, и дворником, и истопником, а с ними особо не потолкуешь – оба глупы и малознающи. Выбирался в храм Божий с внуком, оставив дома Антипа, но там особо не поговоришь. Да и не с кем – давние товарищи-подьячие да писцы в Огородники не забредают.
Он истосковался по правильной и неторопливой мужской беседе.
По дороге во время остановок, чтобы дать отдых лошадям, женщины пересаживались из саней в сани – для забавы. Авдотья с Настасьей расспрашивали про божьего человека Васятку, им отвечали: да, точно, и пропажи находил, и правду всем в глаза говорил.
– Что ж его с собой не взяли?
– А не пожелал. Сказал: желаю видеть великий пожар, в коем многие грешники сгинут. Мы ему: так и ты ведь сгинешь! А он нам: так я и есть самый великий грешник. Что тут скажешь… Хлеба ему оставили, ключ от кладовых дали – там еще припасы есть. Он за нас молиться обещал. А у него молитва – крепкая!
Обоз продвигался не слишком резво, дабы коней не изнужить. Если бы ехать так, как едут зимой купцы, меняющие коней в известных местах, то от Москвы до Вологды можно за шесть, даже за пять дней добежать. Когда везут стариков с детьми да двух брюхатых баб, да еще коней берегут, то дней требуется одиннадцать, в чем Деревнин сам и убедился.
– Ну, Вологда уж близко, – сказал Антип, успевший сдружиться с прочими кучерами, которые научили его приметам. – Вон, вишь, по правую руку колокольня? То Покровская церковь в Козлене. Когда она вот этак выглядывает – до Насон-города и пяти верст не будет. А вон там луковки – то Успенский собор. Он в самом вологодском кремле стоит, над рекой.
– Слава те, Господи! – воскликнул Деревнин. Не видел он ни креста на Покровском храме, ни пяти луковок – серые пятна стояли в глазах. Но радость Антипа чистосердечно разделил.
Кони пошли шагом. Обоз медленно втягивался в Верхний посад, в Каменье и дальше, где поселилось немало московских купцов и с ними – Кузьма Гречишников. Там они поставили амбары для товаров, сторожей наняли местных. Понемногу то полдюжины саней, а то и десяток уходили в переулки. Наконец остались только гречишниковские – с людьми и с товаром.
Семейство Деревнина только вертело головами: что за жизнь, что за счастье! Дети по улицам носятся, их выпускают за ворота, не боясь беды. Девки молодые в стайки собираются и гуляют без всякого страха. А вот сани прокатили, в санях веселые нарядные бабы – хотя веселиться и наряжаться грех, Страстная неделя вот-вот начнется. И отпускают их мужья, зная, что никакого дурна от пьяных панов не приключится.
А вот и молодцы!
Деревнинские дочки наконец-то поняли: прав был батюшка, что увез их из Москвы в этот прекрасный город. Женихи-то по улицам – толпами, толпами! Вот один верхом на сером аргамаке проехал, шапочка с отворотами набекрень, бородка золотистая, а очи соколиные!
– Скорее бы в храм Божий, – шепнула Аннушка Василисушке.
Там, в храме, не только Господу молятся да в грехах каются, там свести знакомство можно – но не с молодцом, а с его сестрицами. Батюшка-то опять велит дома сидеть да рукодельничать, а матушка выпросится с дочками в церковь, матушка все понимает! А скоро им уже пятнадцать, самые жаркие годы начинаются.
– Ну, считай, мы уже дома, – сказал Деревнину Мартьян Петрович.
С особой радостью и Деревнин, и его дочки перекрестились на деревянный храм – хорошо, что есть где благодарственный молебен отслужить. Когда Мартьян Петрович велел останавливаться у крытых ворот, Аннушка с Василисой обрадовались – до храма-то идти всего-ничего, улочку перебежать, и строгий батюшка, может, даже без присмотра отпускать будет. Рай, сущий рай эта Вологда!
Привез деревнинское семейство Гречишников на двор к брату Кузьме, а двор был в Кобылиной улице, вблизи от высокого речного берега, из окошек горниц все Заречье видать. Тот таких гостей не ожидал – Мартьян Петрович додумался вывезти из Москвы своего благодетеля в последний, можно сказать, миг. Но не выставлять же на улицу. Кузьма Петрович позвал супругу и приказчика Ивана, своего племянника, велел спешно разузнать, где можно снять за разумные деньги жилье. Позвал также конюха Никанора – посмотреть вороного возника; если Никанор одобрит, то себе оставить, а Деревнину заплатить, если не одобрит – велеть продать.
Супруга, Анна Тимофеевна, тут же забрала к себе Настасью и Авдотью с детьми, мамку Степановну и Феклушку. А внучек любезный, Гаврюшка, был оставлен при деде и слушал беседу старших с большим любопытством.
– Дивно! – сказал Деревнин. – Уж сколь по Вологде проехали – ни единого польского словечка не слышали. Как в рай попали!
– И не услышите, – ответил Кузьма Гречишников. – Я как раз был в Вологде, когда сдуру и с перепугу впустили сюда тушинцев. Да сами их потом и истребили. Полюбилась им, вишь, Вологда! У кого Вологда – у того и все Поморье, иного пути туда, пожалуй, и нет. Опять они приходили – и опять их выпроводили.
Не слишком докапываясь, как так вышло, что убиенный царевич оказался жив, деловитые северяне (и торговые гости, и монахи в обителях, и зажиточные крестьяне, и рыбацкие артели) поспешили подтвердить у нового царя свои стародавние права и льготы, чтобы никто не согнал с земель и не мог увеличить налоги. Тот прислал им воеводу – Федора Нащокина, который оказался большим негодяем. Дал он им и дьяка Ивана Веригина, который додумался до глупости: запечатать в амбарах и на складах все купеческие товары. Купцы ему этого не позволили. Вскоре вологжане, претерпев от неслыханных поборов новой власти, разобрались, что к чему, раскаялись в своей опрометчивой присяге и вернули себе прежнего воеводу – Никиту Михайловича Пушкина, а также прежнего дьяка – Романа Макаровича Воронова. Потом они взяли приступом дом Булгаковых, где сидел тушинский воевода, захватили всех тушинцев и оказавшихся в городе поляков, в том числе пленных. Сгоряча всех их перебили, а трупы скинули с горы в реку Золотицу, она же потащила их в реку Вологду, и там они сгинули. Таким несложным способом вологжане перешли на сторону Москвы и заново присягнули в верности московскому царю. Царь Василий Иванович особой грамотой благодарил их, и более вологжане в политику не лезли. Воевода Скопин-Шуйский прислал им немного войска и своих воевод – Григория Бороздина да Никиту Вышеславцева. И это вологжане от души одобрили.