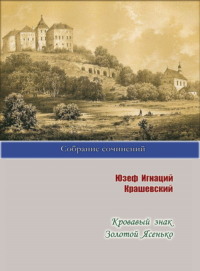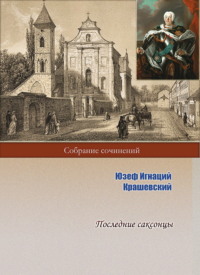Полная версия
Орбека. Дитя Старого Города
Если ещё где-нибудь мы встретимся на свете, этот человек – мой. Непривлекательный, немолодой, какой-то грустный, слишком сурово выглядит, но миллионный. В худшем случае, в свадебной интерцизе можно себе обеспечить une retraite honorable, avec 50 mille forins de rente. Ce’ n’est pas le bout du monde, mais c’est quelque chose. Всерьёз подумываю о нём.
К несчастью, начались под вечер танцы; он не танцует, а у меня страсть к мазурке, я бросила его в углу, потому что попался хлопчик как куколка, а был выбор! Мы пробезумствовали с ним до белого дня, но я потеряла из глаз мизантропа, который, возможно, пешком пошёл домой. Не имею надежды, чтобы могла подхватить его здесь, но поймаю в Варшаве, куда он поедет.
Я также тут долго пребывать не думаю, как особенность, une couple de jours, в этой пустыне, понимаю, что жить невозможно. Весь этот свет такой какой-то развязный, а, несмотря на это, – d’ une sèvèritè! При этом одеваются, едят, пьют смешно. И парикмахера совсем нет, а за marchande des modes, пожалуй, в Варшаву посылать.
Мне также кажется, что вчера я как-то неосторожно торжествовала, местные девушки, матери, отцы криво на меня смотрят. Буковецкие, очевидно, опасаются. О! Мне всё одно, я не выжила бы их зразами и бигосами. Сегодня во всём доме так слышно капусту, что пишу, держа под носом флакончик, потому что меня аж душит.
Но для приличия проведу тут несколько дней, вскружу голову крестьянам, влюблю в себя Стасика, чтобы всю жизнь вздыхал по мне, оставлю ему колечко на память и adieu Messieurs!
Невинный младенец! Если бы ты знала, как его руки дрожали, когда я, опираясь на его плечо, возвращалась под утро, какой горячий поцелуйчик запечатлел на конце моих пальчиков, уходя со вздохом, над которым я сердечно смеялась. Mais un petit bout de roman naif, cela rajeunit, c’est rafraichissant. Не правда ли?
Я хотела бы описать тебе деревню, потому что ты её вовсе не знаешь, а шляхетский двор в деревне – ah! que c’est drôle! Я, хотя воспитывалась в подобном, но уже совсем забыла эти обычаи. Каждый из этих панов в состоянии съесть за день целого вола и выпить бочку пива, антал вина, que sais-je? – заездить десять коней. Всё это одето по-старинке, говорят громко, ругаются страшно, но в сущности, как я убеждаюсь, все под каблуком. Женщины всесильны. А! Какие женщины, моя дорогая, ты не представляешь себе этой накрахмаленности, той важности, смелости их вместе и наивности.
Раз выйдя замуж, свет закрыт, никто тут не слышал о разводах, un mariage, c’est pour l’èternitè; on y entre comme dans un cloitre. То утешение только, что устроен деспотично. Одеваются вечно, моды не знают; приходит она сюда, возможно, через пятьдесят лет только, когда о ней уже во всём свете забыли. Я долго бы тут выжить не могла, но увидеть это всё-таки стоило. Кажется, что через пару дней sans tambour ni trompette прикажу запрягать в золотую каретку и… появлюсь перед тобой одного белого утра, дабы обнять тебя, наговорится и насмеяться. Только я должна сначала узнать, что стало с моим миллионером, потому что je n’en dèmordrai pas, должен быть моим. Целую твои милые глазки. Мира».
ROZDZIAŁ IV
Вернувшись домой пешком, Орбека застал своего верного Нерона в углу неспокойным, ожидающим, Яська – на лавке, а коней – в конюшне. Поскольку возница, проведав об исчезновении пана, кратчайшей дорогой, имея надежду его нагнать, поспешил в Кривоселец. Они разминулись с паном Валентином.
– Слушай, Яська, – сказал Орбека старому слуге, – приготовь мне там, как сумеешь, всё для дороги, нужно ехать, а тут меня эти люди замучают поздравлениями. Бричку, какая есть, коней, каких Бог дал, какой-нибудь холоп повезёт.
– А я и Нерон? – спросил Ясек, наивно сопоставляя себя с достойным созданием, которое ластилось к ногам пана.
– Ты, мой старик, останься на страже дома, – сказал Орбека. – Сохранишь мне тут всё нетронутым, как было. Кто знает, как и с чем вернусь. Может, к нам возвратятся прежние тихие времена. А Нерон поедет со мной, – добавил он.
– Тогда Нерон счастливей меня, – шепнул Ясек.
– Нет, – сказал, обнимая его, Валентин, – но делаю тебя верным сторожем моего гнезда. Думай тут обо мне и проси Бога, чтобы я вернулся целым.
Слуга расплакался, а пан, может, для того, чтобы не показать слёз, быстро подошёл к погасшему камину и сел перед ним на долгую думу.
Спустя пару дней потом пан Валентин прощался с Кривосельцами, такой грустный, такой взволнованный, как если бы ехал не на жнивьё золотое, но на предвиденные пытки. Сердце говорило ему, что должен был заново страдать, а предназначение гнало той неизбежной дорогой страдания.
ROZDZIAŁ V
Есть в жизни минуты ясновидения – самый упрямый маловер, хоть объяснит это своим способом, факт должен признать, хотя бы назывался животным инстинктом, а не взглядом души. Как внезапный блеск пролетает перед нами будущее и мы чувствуем, что оно неумолимо, фатально; сломленная воля ему противостоит, послушная, как то слабое существо, которое в пасть змеи летит само, притягиваемое его взором, – склоняется, чтобы увидеть свою долю, хотя бы эта доля была самым сильным мучением.
Орбека, выезжая из дома, знал, что его в свете снова ждут тяжёлые разочарования и страдания, однако же ничего не делал, чтобы их избежать, сам шёл в пучину фатальности.
С очень давнего времени он не знал даже, что стало с его женой, вышедшей замуж за другого; на самом вступлении, прибыв в столицу, он узнал от приятеля, что овдовела, что была достаточно бедной.
Славский, старый друг пана Валентина, хоть носил мундир, был вполне свободный и незанятый. Занимался рисунком, искусством, читал, рисовал; он принадлежал к маленькому кругу любителей живописи. Бедный, тихий, не мечтающий о прекрасной судьбе, Славский жил со дня на день на маленькую пенсийку и мелкими работами. Его существование было грязным, бедным, зависимым, с одной стороны отирающимся о то, что страна имела самого прекрасного и богатого, с другой о самые бедные сферы работников искусства, более бедных, чем работники ремесла. К счастью, Славский не болел, как много псевдохудожников, фантастическими горячками, не жаловался на свет, не искал в нём насыщений и слишком сильных впечатлений, пил только воду, ел мало, а работал много. Со всех взглядов был это человек замечательный, хотя многие считали его холодным, заурядным, потому что не играл никакую комедию и не навязывался людям, а скорее защищался от них и обособлялся.
С Орбекой они встретились на улице; Славский не знал о перемене его судьбы, о наследстве, о миллионах, и приветствовал его удивлённый:
– Что ты тут делаешь? Зачем было выезжать из деревни, где мог спокойно работать?
– Ты имеешь право спрашивать, – отвечал Орбека, – но ты ошибаешься, думая, что я сделал это по доброй воле.
– А что же тебя вынудило?
– Ничего не знаешь?
Славский пожал плечами, и только теперь узнал всю историю, и лицо его нахмурилось. Совсем наоборот, не как делают обычно люди, он привык избегать богатых; достойный Орбека уже его испугал. Едва по старому знакомству он сумел его силой удержать и вести с ним более долгий разговор. Но Славский уже был осторожен.
От него узнал пан Валентин о вдостве своей жены и бедном её состоянии, и его посредничество использовал, чтобы поддержать её пожертвованием, о происхождении которого она бы не догадалась. Сначала его что-то тянуло к несчастной, но какая-то противная сила удержала.
Вынужденный заняться делами, немного выходил пан Валентин, мало кого видел, кроме юристов и Славского. Нужны были опера, музыка и уговоры Славского, чтобы его вечером вытянуть в театр, итальянская примадонна выступала в новой опере; Славский, хоть сам не музыкант, страстно любил пение, Орбека дал ему отвести себя в театр.
В неудобно устроенной зале они застали непомерную толчею, особенно большого света, модников, франтов, как их тогда называли (сегодняшних львов), и модных красоток.
Хотя все пришли будто бы слушать музыку и пение, меньше всего, однако, было слышно и того и другого, опоздавшие зрители входили захмелевшие после обеда, громко разговаривая, красивые дамы в ложах смеялись на всю залу; стучали дверями, кричали с одного конца театра в другой. Только на главной арии той итальянки сделалось немного тише, прослушали её немного внимательней; но после аплодисментов, которые извещали о конце, гомон и шум начались заново. Славский имел возможность показать Орбеке самые ясные звёзды этого Олимпа, самые красивые лица, к каждой из которых была привязана какая-нибудь история, самые видные фигуры эпохи, отличившиеся в разнообразных профессиях.
Беседа между двумя приятелями, которые занимали хорошее место в низкой ложе и были почти скрыты от любопытных глаз, шла очень живо, когда вдруг Орбека схватил за руку Славского и указал ему на одну из лож на балконе, в которую как раз входили две нарядные пани.
– Ты, что всех тут знаешь, – сказал он, – сумеешь мне, верно, что-нибудь поведать и об этих двух красивых личиках.
Славский минуту смотрел.
– Одна из них есть всё-таки пани Лулльер, которую не знать не годится, – отвечал он.
– А другая? – спросил Орбека.
– Другая не менее славная, или, если предпочитаешь, ославленная, экс-баронова фон Зугхау и экс-подчашина, на языке модников известная под именем прекрасной Миры.
– Я именно потому спрашиваю тебя о ней, что недавно её встретил в деревне, и удивляет меня, что уже нахожу её в Варшаве.
– А! Ты встречал её! – отпарировал, смеясь, Славский. – Ежели знала о том наследстве, можно удивляться, что тебя целым выпустила.
– Ты знаешь её? – спросил Орбека.
– И я её встречал в нескольких домах, в которых я бываю, потому что она бывает везде, но со мной это что-то другое, я стою в углу, не отличаюсь ничем, глаза женщин этого рода не стреляют в такую бедную дичь, миновала меня экс-подчашина, не обращая внимания.
– Всё же это дивно красивая женщина, – воскликнул Валентин, – если бы ты знал, как играет!
– Это сирена, это самое опасное из искушений, это хамелеон, который каждую минуту меняется, но это женщина без сердца, без совести – и без жалости.
– Ты суров.
– Снисходительным, – сказал Славский, – я мог бы сказать хуже, но я её понемногу оправдываю тем, что нет тут, может быть, и одной женщины, которая бы того же бремени, что она, не имела на совести, только в меньшем количестве. Нужно за что-то считать атмосферу, в которой живём.
– Значит, она не опасней других?! – сказал Орбека.
– Пусть так Бог судит, – отвечал Славский, – я в целом не признаю за людьми права судить о ближних. То, что Христос поведал о бросании камня, я понимаю в том смысле, что мы все всегда в других судим нашими собственными делами. Нужно быть ангелом, чтобы изречь справедливое суждение о человеке. Где и к какому приговору не примешается слабость людская?
– Можешь мне, хоть не осуждая, что-нибудь поведать о ней? – спросил Валентин.
– Мало. О мои уши отбилось много вещей, но то личико не очень меня занимало, не допытывался, не следил за ней. Достаточно мне было поглядеть, чтобы задрожать. История очень простая, неизмеримо банальная. Молодою выдали её за старого, то была, может, первая причина, из-за которой бросилась в свет, не имея чем сердце накормить дома. Молодой парень сбаламутил её, развод и… не женился, потому что семья не допустила. Потерял из-за неё значительную часть состояния… разделили их. За ним последовал князь С, который, как говорят, обещал жениться, но, получив от жены пощёчину, рассудив, что то, что имел, пошло всё на красивые глазки, что крах грозит, отступил. Позже на ней женился подчаший, но не долго выдержал, потому что красивая пани носила, по правде говоря, его фамилию, тратила его деньги, жила в его дворце, но с ним жить не хотела. Последовал развод на достаточно, возможно, выгодных для пани условиях. Муж спас часть состояния, отпуская остальное шутнице. Говорят, что и эту уже пожрали путешествия, фантазии, наряды, расточительность всякого рода. Не считаю тех иных жертв, которых называют, обворованных, полупрогоревших либо полностью уничтоженных красивой Мирой, имеет она тут славу ненасытного до денег обжоры. Не может обойтись без них, на то, чтобы выбросить их в окно. Но с некоторого времени все её остерегаются. Она имеет неслыханное обаяние и умеет делать из себя, что захочет, даже невинную, скромненькую девушку. Ничего это ей не стоит, имеет это в натуре.
Когда Славский с хладнокровием анатома рассказывал, Орбека всматривался в нарядную пани, которая смелыми глазами пробегала театр, головкой и улыбками разбрасывая поклоны бесчисленным знакомым. Она была одета с большим вкусом, с розой в волосах, с изумрудным ожерельем на белых плечах, с обнажёнными ручками, вся в кружевах и газах. Выглядела как цветок в нарядной свеженькой карзиночке. При этой весенней свежести её гасли другие женщины, выдаваясь старыми и увядшими. Покой и мягкость были разлиты на её личике, я сказал бы, что ещё не начала, не знала жизни.
Едва она показалась в своей ложе, несколько молодых людей вбежало к ней с букетами, со смехом, с навязчивой рекомендацией, которые она принимала как почтение, следующее ей. Двое или трое старших господ притянули её глаза из партера, дверь ложи закрыться не могла, такая там толпа сделалась около неё; но она по-быстрому разогнала ненужных, позволила остаться двоим или троим и, опершись на край, начала приглядываться к публике.
Она внимательно пробегала по очереди ложу за ложей, лавку за лавкой, делая разнообразные замечания, над которыми она и её окружение смеялось до упаду. Много глаз обратилось на этот весёлый шумный уголок, но она как раз себе этого желала.
Молодой человек стоял за ней, будто адъютант.
– Мой пане Иероним, – воскликнула она, обращаясь к нему, – помогите мне; кто там сидит в тёмном углу, внизу, в партеровой ложе? Вон тот… вот здесь… – рукой указала на Орбеку.
– Славский.
– Но я его знаю, знаю, не о нём спрашиваю. Кто с ним?
– Этого я не знаю.
– Мне кажется… но, может, я ошибаюсь. Пане Иероним, пойдите на разведку к Славскому и принесите мне информацию – но обязательно.
– Славского я знаю мало.
– Что же мне до этого, когда я хочу, – добавила она с ударением, – когда я приказываю. Всё-таки ты должен знать – то, что я хочу, должно статься. Ce que femme veut… Ты был бы самым непутёвым на свете, если бы не смог узнать.
Иероним уже собирался выйти.
– Подожди, подожди, – прервала она, – уже не нужно, уже знаю, я уже уверена. Да, это он, он обернулся, я узнала его. Но как же зовут! О! Это всё равно, я уверена, что это он. Да! Он должен быть в Варшаве. Иероним, золотой, дорогой, дам тебе кончики пальцев поцеловать, пойди и попроси его завтра ко мне на обед, вместе со Славским.
– Но… – заколебался Иероним.
Мира топнула ножкой и ударила его веером по плечу.
– Mais je vous dis qu’il n’y a pas de «но»… иди и исполни приказы.
Иероним поклонился и тут же вышел, через минуту он показался в ложе Орбеки, красивая пани глаз с неё не спускала.
Нужно было действовать смелостью.
– Как поживаешь, пане Славский? – воскликнул он, входя. – Прошу прощения, что так навязчиво вламываюсь, но есть чрезвычайные ситуации. Сперва представьте мне господина…
Орбека зарумянился.
– Пан Иероним, пан Валентин Орбека.
Они поклонились друг другу.
– Когда молодая и красивая женщина упрётся и что-то приказывает, – произнёс Иероним, – нет спасения, нужно быть послушным; вы это, верно, знаете и простите мне, что так, может, немного невежливо выполняю это посольство от прекрасной Миры, которая за этим из своей ложи credentiales меня сюда прислала. Ведь пан Орбека знаком с ней?
– Очень мало, – сказал Валентин.
– Подчашина приглашает завтра обоих панов на обед.
Орбека, почти испуганный, побледнел, невольно глаза его обратились на ложе, а Мира, догадавшись, что это была решительная минута, взмахом веера подтвердила приглашение.
– Я надеюсь, что вы не откажетесь от приглашения, – смеясь, добавил Иероним, – поскольку в противном случае, получив решительный приказ, я должен был бы применить силу.
Приглашённые рассмеялись, но Валентин как-то грустно, а Славский добавил:
– Эй, пане Иероним, заверь нас обоих, что на этом обеде ничего не будет, а что если эта Цирцея превратит нас в каких-нибудь зверей; так как уже тебя превратила в отличного ездового скакуна. Это не мелочь – попасть под выстрелы этих глаз, я предпочёл бы под фортецией стоять, имел бы чем защищаться, мины, контрмины, а тут…
– А тут… – прервал Иероним весело, – ну, думаю, что вы придёте также вооружённый и ничего с вами не случится. Обед в два часа.
Он подал руку Орбеке.
– И вы боитесь? – спросил он.
– Я уже немного старый, – сказал несмело Валентин, – и возраст меня сам защищает; я был ни в одном огне, и хоть бы был раненный, a la guerre comme a la guerre.
Он говорил это, сам себе добавляя отвагу, которой в действительности не имел вовсе, бедный, потому что дрожал в духе, хотя этот страх показать не смел.
После выхода Иеронима в ложе царила минута молчания, глаза Валентина были опущены вниз, Славский был нетерпеливый и нахмуренный.
– Эта женщина в самом деле не имеет стыда, – воскликнул он через минуту, – вызывает тебя, это очевидно, потому что уже знает о том, что имеешь огромное наследство, а, может, чувствует тебя уже слабым. Не знаю, каким образом вы встретились в деревне, но не сомневаюсь, что эта мысль с первой минуты её поработила.
– Выйдем из театра, – сказал Орбека, – пройдёмся по Саксонскому Саду, поговорим больше, я весь возмущён.
Глаза прекрасной Миры упали на выходящего уже Орбеку, которому поклонилась ещё веером, головкой, и фиглярно усмехнулась, как бы потихоньку шепча: «До свидания!»
Валентин вытер капли пота с лица, весь дрожал, схватил руку приятеля, и они шибко вышли… точно убегая оба.
Ночь была прекрасная, по небу пробегали белые волнистые облачка, среди которых иногда проглядывалась светлая луна; среди старых деревьев было полно прогуливающихся особ и весьма оживлённого общества, хотя сложенного из самых разных элементов.
Орбека долго не мог говорить; более холодный Славский, видя его смешанным, испуганным, и предсказывая из этого о плохом, начал первым:
– Это, – сказал он, – на вид вещь малого значения… пойти на обед к кокетке, но если бы я не чувствовал себя вооружённым, холодным, а чувствовал себя слабым, знаешь, что бы я сделал? Отказался бы из-за болезни и приказал коня запрегать, и убежал бы из города.
– Я как раз думаю, – отвечал Орбека, – не следует ли мне это сделать.
– Это было бы самым разумным, – говорил далее Славский. – В молодости я понимаю влияние той манящей силы женщины, говорит ей горячка, свойственная возрасту, но человек зрелый, для которого она не новость, от опасной болезни должен защищаться разумом.
– Да, – тихо выдавил Орбека сдавленным голосом, – я отлично всё знаю, что ты можешь поведать, потому что сам это себе говорю и повторяю, но…
– О! Есть, значит, но?.. – спросил Славский.
– Есть но, – вздохнул Валентин, – есть но, увы. Ты знаешь, что такое жить без сильнейшей привязанности к кому-нибудь, преданному, постаревшему в одиночестве? Говорить себе неустанно: жизнь кончится, я столько желал, а ничего не получил. Человек доходит до такого отчаянного желания, что если бы в поданном напитке чувствовал яд, предпочитает выпить, чем сохнуть от неутолимой жажды.
– Мой дорогой, – отвечал Славский, – я понимаю это состояние, потому что проходил через его огонь. И я мечтал о женщинах и женщине, и мне улыбались надежды, а бедность и связи толкали меня постоянно в объятия таких созданий, которые пробуждали во мне омерзение. Наконец, спалённый горячкой, я сумел сказать себе, что моя жизнь обойдётся без дорогой амброзии, что я лишённый, и со своей судьбой должен смириться. Нужно с собой обходиться по-мужски, сурово.
– И это я знаю, – сказал Орбека, – но кто не имеет мужской силы и энергии?
– Дорогой друг! – воскликнул Славский. – Тот… прости меня, тот в луже тонет.
– Фатальность!
– Нет фатализмов, есть воля! Но нужно иметь отвагу её использовать.
– Тогда на что сдалась жизнь? – спросил Орбека.
– Послушай меня, понимаешь, – воскликнул, разогреваясь, Славский, – буду говорить долго и, несомненно, нудно, но ночь такая прекрасная, а ты в таком расположении духа, что можешь послушать. Для меня это милый случай открыть тебе свои мысли, которыми редко с кем в жизни делюсь.
Не думай, чтобы я не понимал того неземного счастья, какое может дать любовь; но такая любовь – это великая судьба, выигранная на лотереи жизни. Из ста тысяч людей один может её поймать.
Сколько же требует условностей эта идеальная любовь, чтобы была ясной звездой жизни, симпатий, темпераментов, страсти, гармонии характеров, искренности сердец, любви из тела и любви из духа, уважения, веры? Пусть найдётся один фальшивый тон в этой гамме, вся песня дисгармонией распряжётся. Такая любовь продолжительна, это rara avis in terris… такие сердечные пары считаются в истории особенностью. Поэтому мечтать о ней людям, хотя бы наиболее горячо жаждущим недоступного счастья – это напрасно потерять время и высохнуть на стебле.
Я жизнь понимаю иначе, минуя даже его важную, главную цель: совершенствование человека, возвышение его, облагораживание – это желание любви обращаю к иной цели, люблю природу, всякую красоту и то, что её воспроизводит – искусство. В нём ищу насыщения и ничем не замутнённых удовольствий. Так и ты некогда понимал жизнь.
При виде красивой картины, статуи, захода солнца, великолепной околицы, слушая музыку, читая поэзию, я наслаждаюсь, лечу за светом, живу, чувствую, что я высшее существо, и мне достаточно этого.
Минутка безумия, которую я горько бы оплачивал унижением, разочарованием, жалостью, кажется мне недостойной достижения, обижающего человека.
– Ты дал мне оружие для победного ответа, – ответил живо Орбека, – поэтому одно только тебе скажу: вся жизнь есть лотереей. Почему мне на неё ставить не позволяешь, когда всё есть ставкой на неопределённость? Почему я не должен быть тем единственным счастливым избранником из ста тысяч?
– Во-первых, потому, мой дорогой приятель, – сказал грустно Славский, – что сегодня, хоть с тёплым сердцем, ты уже не юноша; а поэтому ещё менее вероятно, чтобы пробудил сильную любовь в женщине. Она будет делать вид, что привязана, обманывать тебя, ты сам будешь заблуждаться и…
– А если это для меня будет счастьем? Зачем же мне обязательно посылать на монетный двор своё золото? Если золотом будет для меня…
– Приятель, – сказал Славский, – кто так разумеет, того уже убедить невозможно. Я в самом деле начинаю за тебя бояться, потому что хочешь быть соблазнённым, а поэтому им будешь и…
– А если приобрету мгновение счастья? – спросил Орбека.
– Ты это называешь счастьем! О, человече! О, богохульник! Если в твоём уме стоит образ той женщины, не говори же о счастье! Этот кубок, может, полон, красоты, но отравленный! Для меня сама эта мысль, что женщина с тысячью непогасших воспоминаний, с нестёртыми ещё поцелуями бывших любовников… Нет, дорогой Орбека, не давай этому безумию, которое может тебя подхватить, ни имени любви, ни названия счастья. Ты был бы богохульником! Я тебе скажу, как это должно называться – распутством.
– Увы! – добавил через минуту Славский. – Распутство проест мир до костей. Исключительно ему надлежит приписать упадок рода людского. Именно во имя этой идеальной небесной любви я бросаю проклятие на то, что с ней сегодня сделали. Это соединение сердец, которое должно быть великим и святым, торжественной минутой жизни, изменили на звериное своеволие, не разбирающееся ни в чём, лишь бы распоясанное насытилось. Никто любить не умеет и потом удивляются, что нигде нет счастья, с супружества содрали то, что представляло его красоту и святость, из связи душ сделали быдло.
– Достаточно, – прервал Орбека, – признаю за тобой правоту, но оттого что нам перепало жить в этой испорченной эпохе, должны ли мы отрекаться от единственных лучших мгновений жизни?
– Позволь тебе сказать, что ты чересчур слабо защищаешься, или, скорее, слово бросаешь без мысли. Лицезрение этой женщины распалило тебя, а страсть не слушает уже ни рассуждений, ни аргументов. Я тебя люблю, я тебя жалею, и предвижу твоё падение.
– Что же мне посоветуешь? – спросил Валентин.
– Уезжай, складывайся, напиши письмо, извинись, я за тебя пойду на завтрашний обед.
– Посмотрим! – отпарировал тихо Орбека. – Доброй ночи тебе!
– Ещё слово: мне прийти завтра утром к тебе… чтобы тебя проводить?
– Да, подумаю, завтра утром… жду тебя завтра утром. Спокойной ночи!