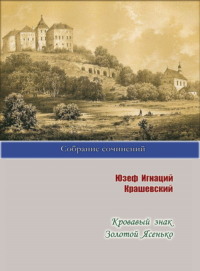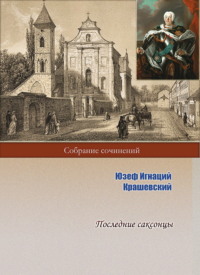Полная версия
Орбека. Дитя Старого Города
Он не глядел даже на женщин, не видел, как невзначай любопытным взором измерила его прекрасная разведёнка. Казалось, изучает и исследует его с лица, однако же, опасаясь, чтобы игру эту не заметили, не разгадали, Мира притворялась занятой чем-то другим и отлично играла роль равнодушной.
Тем временем гости съезжались, дом наполнялся; отворили двери в столовую залу, пан Валентин, как выновник торжества, должен был подать руку хозяйке, а судьбе было угодно, чтобы его посадили между подкомориной и Мирой.
Мира была неслыханно скромна, молчалива, почти запугана. Невольно пан Валентин обратил взгляд на неё и – уже от этого красивого личика оторваться не мог. Знал он из представления имя пани, но кто она была, не знал вообще. Поразило его девичье выражение, молодое, полное свежести, этой женщины, очевидно, не принадлежащей к деревенскому свету.
За обедом, не знаю отчего, завязался разговор. Мира вела его так ловко, что до наивысшей степени раздразнила любопытство Валентина. Она знала, что он любил музыку, и притягивала его, показывая необычное её знание.
Но, бросив пару семян, которые должны были прорастать в сердце и уме, она тут же замолчала, заслонилась молчанием и с самой отличной стратегией, казалось, отступает и защищается от знакомства ближе.
Орбека был задумчив, смешан, но полон уважения, не навязывался слишком. Разговор наедине также становился невозможным при кружащих рюмках, всё общество вело безумный гомон, тот хор веселья, среди которого пересекались остроумные выкрики, пожелания здоровья, громкие вопросы, забавные ответы, избитые шутки, но всегда побуждающие к смеху. Может, из всего круга пирующих, окружающих стол, менее весёлыми были пан Валентин и Мира. Их настроение, по крайней мере на первый взгляд, казались дивно согласными.
Выпили за здоровье Орбеки, желая ему счастья и процветания. Рюмочка Миры стукнулась о рюмку соседа, а её глаза брызнули огнём и искрами глубоко в душу. Пан Валентин почувствовал себя как бы опутанным и прибитым. Он был побеждён без борьбы, а под тяжестью этого безумия и опьянения казался таким неуклюжим, как только большое чувство или страсть могут нас делать. Одно обстоятельство, для всех являющееся тайной, даже для Миры, ещё способствовало впечатлению, какое она на него производила.
В прошлой жизни бедного человека лежали на поле боя кровавые памятки великой, безумной, жестоко разочаровавшей любви, которая вывернула всю судьбу Орбеки. Та женщина, образ которой он носил в сердце до сего дня, была как бы родной сестрой Миры. Чрезвычайное сходство не только лица, но и физиогномики, улыбки, движений, голоса напоминали мученику дни восторга, дни надежды, дни счастья… очень короткого. Никто в соседстве даже не знал о том, что пан Орбека был женат, был предан, и когда развод у него вырвал жену, он решил, несмотря на её неверность, остаться верным своей клятве до смерти.
В эти минуты этот явившийся ему призрак любимой, освежённый, помолодевший, как бы очищенный от прошлого, аж до безумия его экзальтировал. Он должен был использовать всю силу и мощь характера, чтобы не броситься под ноги того призрака, но сидел рассеянный, как на горячих углях, горя и бледнея попеременно, молясь, чтобы обед как можно быстрей закончился и избавил его от этого испытания, которого боялся с каждой минутой всё больше.
Как наперекор, когда рюмки пошли по кругу, за здоровье хозяев, подкомория, подкоморины, прекрасной Миры, дочек, кузинок, каждого гостя в отдельности, «Будем любить друг друга» и «Лишь бы нам было хорошо» и т. д и т. д., не было конца виватам и сидению. Некоторые выскользнули, но главным особам не годилось встать из-за стола. Все немного были повеселевшими в этом розовом настроении, которое осмеляет, сближает и делает не слишком внимательным на то, что делается вокруг. Была это минута, выбранная прекрасной соседкой для попытки штурма покорённого уже и так человека. Она обратилась к пану Валентину с улыбкой и опьяняющим, слёзным и таким невинно смелым взглядом.
– Можете ли вы также любить такие шумные общества? – спросила она его потихоньку. – Я признаюсь, что хоть они в обычаях нашего края, вынести их не могу. Даже живя в столице, потому что я долго пребывала за границей и в Варшаве, ищу тихого уголка, чтобы поглядеть на свет. Не скажу, чтобы в нём не нуждалась, в этом свете, в котором движение, жизнь, в головах и сердцах которого кипит и готовится будущее, но это для меня сцена, которую я только из моего ложа хотела бы просматривать.
Пана Валентина опьянял её взгляд, опьянял звук голоса, заслушавшись, он блаженно улыбнулся, а когда кончила, в течение минуты он, казалось, прислушивался ещё. Ответ его был неотчётливый, слова путались на губах, думал, что кажется ей дивно обычным или необразованным, но он имел дело с женщиной, которая читала в мужчинах, как в открытых книгах. Она поняла, что впечатление, какое производила, подбадривало его – она торжествовала, поэтому с этим смущением он показался ей лучше, чем бы представился с самым большим остроумием.
– А! И вы не любите шума, – сказала она, – так я заранее догадалась по тому, что мне о вас говорили. Правда то, – добавила она живо, но опуская глаза и снижая голос, – что вы выезжаете в Варшаву и Львов?
– Да, пани, очень скоро.
– Я также не думаю тут долго пребывать, – шепнула она будто бы неспециально, а в действительности с глубоким расчётом, – возвращаюсь в Варшаву. Ведь могу иметь надежду, что вы будете считать меня там за хорошую знакомую и захотите навестить? Я живу одиноко, мало кто у меня бывает, развлекаюсь музыкой, книжками, имею маленький и избранный кружок, меня не связывают никакие обязанности.
– Как это, пани? – прервал неловко, выдавая себя, Валентин. – Вы…
Мира смело подняла на него глаза и, угадав вопрос, отвечала очень просто:
– Я была замужем, но уже нет. Я много претерпела и желаю остаться свободной.
Орбека не смог утаить радости, которая воспламенила его лицо. Мимолётным взглядом Мира ухватила её, но, казалось, что у него были опущены глаза и она не видит ничего.
Хотя привыкшая к лёгким победам, к чудесам, красивая пани удивлялась, однако, сама той, которую, очевидно, одержала в эти минуты – что-то для неё в этом было необъяснимое. Рассчитывала на гораздо более кропотливое завоевание, на сопротивление, на борьбу – этот лёгкий триумф её беспокоил, могла ли разочароваться в человеке?
Среди прерываемого разговора, на который обращены были только внимательные глаза женщин, рухнули стулья и лавки, все поднялись из-за стола. Орбека подал руку хозяйке, общество с рюмками, с песнями, с процессией прошло в гостиный покой.
Но там было слишком жарко, поэтому одни начали выходить под липы, другие на крыльцо, иные в сад; общество делилось, разламывалось, собиралось в группы, согласно родству.
Подкоморина, однако же, схватив главного гостя, того, который был ей наиболее важен, не думала его отпустить так легко. Имела она свои проекты и держала бедного разговором на привязи; счастьем, неподалёку сидящая Мира говорила ему гораздо больше занимающим взглядом, который играл по всем давно онемелым струнам в сердце несчастной жертвы.
Подкоморине очень было важно, чтобы её дочки порисовались всё-таки перед знатоком музыкой, которой учились от мадам француженки, специально привезённой для придания лоска их образованию. Было это приготовлено тайно, Ванда имела сонату Моцарта, а Эвелинка вариации Гелинка. Надо было, однако же, так умело как-то навести разговор, чтобы панны будто бы невольно и принудительно сели к венскому клавикорду.
Он стоял открытым, а пан Валентин хорошо догадался, что это значило. Говорили о разных, всевозможных предметах, даже о музыке, а Орбека сам согласился на просьбу, чтобы панны сыграли, за что подкоморина была ему очень благодарна. Поэтому панна села Ванда за сонату, которую знала отлично, играла прелестно, хотя её вовсе не понимала.
Все восхищались, Мира больше всех, в её глазах летали какие-то дьявольские искры.
Вариации Гелинка, в которых были, как тогда называли, скрещивающиеся пьсы, то есть перекладывание рук, правую к басу, левую на высшие ноты, произвели фурор. Панна Эвелина встала от клавикорда розовая как пион, но счастливая, что это трудное море осилила и приплыла в порт.
По очереди девушки начали настаивать и просить пана Валентина, чтобы сыграл; несчастный человек, имеющий наивысшее отвращение к показухе, чуть не убежал сразу, но Мира шепнула ему словечко и он заколебался.
– Чем же меня могут волновать эти люди? – сказал себе в душе, осмеливаясь, пан Валентин. – Сыграю для этого призрака дней моей юности, поймёт ли меня кто, или нет, дрогнет ли в ком сердце, вытеснит ли слезцу, или я вызову равнодушный смех, чем же мне это навредит?
Венский клавикорд был отличный, душа мечтающая; Орбека стоял, качаясь, смягчался, дал проводить себя к стулу, забыл в конец концов о толпе, что его окружала.
В зале царила тишина, с крыльца только через открытую дверь весенний ветер приносил фрагменты речей и выкрики попивающих старый мёд и венгрин.
Мира, опершись на стол, сидела в уголке, в стороне, но так, что и он её, и она его могла видеть. Лицо Валентина облачилось вдруг таким торжественным выражением серьёзности, восторга, елейности, что даже непостоянная кокетка почувствовала себя взволнованной. По нему видно было, что в минуты, когда он должен был коснуться клавиш, внутренняя музыка играла уже гимн боли в его душе; он подошёл к этому клавикорду, как энтузиаст к посвященной арфе.
Почему он выбрал сонату Бетховена (ре-минор), этого сам, наверное, не знал. Бетховен был его любимцем. Едва он коснулся клавиш, свет исчез, не видел уже даже Миры, которая пожирала его слёзными глазами, забыл, где находился, кто его слушал, дьявол мелодии схватил его за плечи и нёс над землёй, чтобы потом бросить и разбить его об неё.
Труд гения имеет то в себе, что когда его творит огненное вдохновение, тогда, хоть непонятное, неясное, становится понятным для всех, говорит языком, который потрясает каждую душу. Та же соната, неумело прочитанная, может, вызвала бы улыбки, сейчас выжимала слёзы, затрагивала сердца, создавала беспокойство, которое рисует…
Валентин играл самозабвенно, игра его притянула толпы; стояли в молчании, удивлённо, беспокоясь, куда их этот человек с собой ведёт, чувствуя, что летят в миры, в которых не бывали.
Мира скрыла лицо за шторкой, плакала, была сокрушённой, взволнованной, чувствовала себя маленькой и бессильной.
Минутой назад она ещё владела этим человеком, теперь он похитил её душу и бросил под ноги и, казалось, топчит её.
Когда Орбека закончил наконец игру и оглядел окружающих, которые минуту стояли в молчании под впечатлением его игры, прежде чем хором начали аплодировать, сделалось ему стыдно, больно, как если бы перед чужими людьми обнажил душу, рассказал её тайны, исповедался во всех страданиях жизни.
Он был унижен. Среди поздравлений приблизилась Мира и, сжав ему руку, сказала только:
– Пане, я плакала.
Это слово осталось в его сердце.
Гости постепенно снова начали расходиться на свои места, но эта музыка некой серьёзностью облачила самых весёлых, точно голос костёльного колокола. Валентин отодвинулся в угол, имел мысль сразу уехать, сил ему не хватило; он смотрел на Миру.
«Кто же знает, – говорил он себе в душе, – может, никогда её не увижу, разум приказывает не искать, старая боль подсказывает избегать, возраст не для мечтаний; я достаточно страдал, почему бы дольше не посмотреть на неё?»
И сидел как вкопанный, ведя рассеянный разговор.
Он не знал о том, что если бы более искренно желал выйти и попасть домой, было это невозможным; подпоили людей, собрались кружки, хозяин, неизвестно по каким причинам, решил не выпускать гостя до белого дня. Для иных была поблажка, дали ускользнуть некоторым, за Орбекой внимательно следили.
Пани дома так управляла обществом и движениями в салоне, чтобы одну из её дочек пан Валентин имел всегда перед собой. Знали, что он не танцует, и только это воздерживало от танцев перед ужином. Дивным случаем державшаяся вдалеке Мира как-то постоянно встречала взор Орбеки. Казалось, она его избегает, он стыдился этой навязчивости, и, несмотря на манёвры, их глаза, едва обернувшись, сходились каждую минуту. Девушки ещё играли и пели, невзирая на разговоры; хотели ещё попросить гостя, но он не дался, был сломлен; наконец одной из девушек, может, немного злобно, пришло на ум напасть на Миру, чтобы и она сыграла. Едва эта мысль была брошена, все подхватили её, окружили. Валентин пришёл с другими; мужчины встали на колени с рюмками, целовали ноги, хотели её силой отнести к клавикорду Мира поначалу зарумянилась, вздрогнула как бы от гнева.
– Как же вы можете требовать от меня, – сказала она, разрывая перчатку, – чтобы я играла после вас?
– Почему нет? – отпарировал Валентин. – Я не артист.
– Значит, это было какое-то рисование… какие-то гонки? – спросила она.
– Нет! – воскликнул Орбека. – Я это понимаю иначе. Каждый из нас имеет что-то в душе, к той мысли своей подбирает музыку, какая её лучше всего выражает. Те девушки пели песенки свежие и мелодичные, как их молодость, я исповедал мою бурю и сомнение.
– А что же я вам нового скажу? – живо прервала Мира. – Не находите, пан, что, может, я не хочу исповедовать то, что чувствую? И что, щебеча то, чего не чувствую, выставлю себя на смех?
– О, душа моя! – прервала пани дома. – Что вы там философствуете? Играй, что умеешь.
Мира так же, прежде чем села, казалось, боролась с собой, но в глазах её разгорелся огонь, бросила порванные перчатки, платок, и смело пошла к клавикорду. Тишина, великая тишина разошлась по салону, а она была нужна, чтобы услышать первые звуки той сонаты Бетховена, которую назвали Nocą księżycową.
С первого прикосновения к клавишам Валентин вздрогнул, узнал мастера; клавикорд пел под пальцами, музыка казалась не тяжело дающейся, но льющейся из каких-то недосягаемых сфер.
Более ординарные знатоки и слушатели ошибались в простоте этого широкого выступления, подозревая Миру в небольшом опыте, но после этого гимна наступила загадка, которую кому-то захотелось назвать «цветком, висящим между двух пропастей»; затоптав тот цветок, Мира бросилась на последнюю часть, полную бурь, молний, безумную, насмешливую, слёзную, страстную и действительно отлично рисующую состояние её души!
Только тут засиял весь талант виртуозки. Валентин, который поначалу сидел ошеломлённый, встал, закрыл руками глаза, воспламенился. Что-то такое он испытал в душе, какое-то беспокойство так его бросало, что сначала хотел убежать, едва силой своей рассудительности сдержался и остался.
Неописуемые аплодисменты сотрясли всю залу, все согласились с тем, что игра Миры была прекрасней всех.
Валентин приблизился, поцеловал ей руку и сказал глухим голосом:
– Я был бы счастлив, если бы когда-нибудь в жизни так мастерски сумел выразить мысль. Вы одна – мастер.
Мира, уже вполне остыв от волнения, счастлива была только от полученного триумфа. Струны чувства отзвучали, звучало самолюбие. Буковецкая поздравляла, но кисло; панны восхищались, но мрачно; после этих демонстраций погрустнели, когда из другого покоя, в самое время, зазвучала привезённая капелла, а хозяин, подав руку матроне, достойной пани судейше, начал полонезом.
Как могли показаться скрипка слепого Аронка и контрабас с кларнетами после тех торжественных звуков, мы не скажем, но для молодых ушей была эта музыка более милым вестником, чем первая. Мира, которая была страстной танцовщицей, задрожала, бросила взор на мрачное лицо Орбеки.
– Вы танцуете? – спросила она.
– Никогда!
– А! Жаль! А я так страстно, так безумно люблю танцевать.
Молодёжь толкалась, приглашая уже на мазурку; красивая варшавянка искала глазами партнёра на танец, восемнадцатилетний Стась, сын пана судьи Досталовича, получил первенство; юноша был красивый, а выражение его лица таким полным сладости, что его не раз в девушку в шутку переодевали. Кокетка, как удочку, бросала на него взгляды, уставляла на него взор, и он пришёл к ней послушный.
– Я выбираю себе вас танцором на весь вечер.
Стась засиял, он давно пожирал её глазами, о бедном пане Валентине не было уже ни речи, ни мысли, ни взгляда на него. Орбека после полонеза удалился на крыльцо, выкрал свою шапку и имел коварную мысль вернуться домой, чувствовал, что дальнейшее пребывание становилось всё более опасным, голова и сердце обманывались, а эта женщина уже вовсе о нём не думала. Улыбалась ангелоподобному Стасю, который, казалось, уносится с ней на седьмое небо. Пара эта была премилая.
Мира, будучи послушна только влечению, не расчёту, вовсе, однако, неплохо поступила, теряя из глаз Орбеку, потому что уже и хозяева на неё немного кривились, видя, как он её преследовал глазами, и гости шептались.
Таким образом она вполне оправдала себя, отстояла сердца хозяев и осчастливила Стася, который дал бы уже за неё разрезать себя на мелкие кусочки. На крыльце, где сидел Валентин, прежде чем сумел вырваться, появилась панна Ванда с мамой, которую почти сразу вызвали; Орбека остался с красивой девушкой, которая, вся дрожащая, едва могла с ним говорить.
И он также не был более смелым, чем она. Она бы хотела вырваться к танцующим, он – убежать домой, её сердце билось каким-то страхом, у него – неизмерной тоской и усталостью.
Привыкший долго к тишине и спокойствию, он исчерпал за этот вечер все силы – желал как можно быстрей быть наедине с собой и отдохнуть с мыслями.
Но из вежливости он должен был развлекать панну, которая со своей стороны старалась забавлять его как умела. Как бы специально этот разговор один на один, которым невинный ребёнок не умел пользоваться, чрезвычайно продлился. Только теперь Стась, ищущий девушек для какой-то фигуры в мазурке, пришёл её похитить, чему, наверное, была очень рада, а Валентин, пользуясь одиночеством, двинулся через сад к конюшням и своим коням. Там, однако, он напрасно искал возницу, все развлекались на фольварке, никого найти было невозможно. Следовало или возвращаться пешком в Кривосельцы, или в салон. Из двух вариантов пан Валентин выбрал первый; ночь была тихая, лунная, прекрасная, и хотя был приличный кусок дороги, привыкшему к деревенским прогулкам не показался он страшным. Поэтому один, с мыслями, картинами, впечатлениями и горечью в сердце не спеша пошёл он по тракту, оставляя за собой сияющую от света усадьбу Буковецких.
ROZDZIAŁ III
Когда опомнились, что Орбека исчез, он уже был слишком далеко, чтобы думать погнаться за ним; огорчился только Буковецкий, узнав, что должен был идти пешком.
– Уж так не годилось поступать, точно из неприятельского дома! Я должен ему также за это сделать выговор!
Из разговоров проходящих Мира услышала, что пан Валентин исчез, но её это мало или вовсе не взволновало. Первые впечатления стёрлись уже весёлым танцем, а Стась был такой красивый, румяный парень, полный жизни и молодости, что, оперевшись на его руку, можно было о миллионах одичалого, грустного, увядшего Орбеки забыть.
Помимо Стася, при живой, весёлой, остроумной разведёнке крутилась молодёжь, окружая её и держа в осаде. Стреляли и отстреливали взгляды, двузначные слова, многоговорящие улыбки, молодёжь теряла голову, шалела, панны стояли немного пренебрегаемые сбоку, Буковецкие были мрачны. Вчерашние хорошие впечатления стирались перед очевидностью, варшавская кокетка казалась им опасной.
– Знаешь, друг мой, – шепнула Буковецкая, – так сосуд смолоду нальётся…
– О, да, да, моя благодетельница, – отпарировал он, – что-то мне это уже не по вкусу. Пусть бы, чёрт возьми, выбрала себе одного, но баламутит всех.
– А я спрашиваю тебя, хоть это моя родственница: зачем она сюда к нам приехала? Как ты думаешь?
– Ха, ну, может, пожить.
– Покорно благодарю, не желаю этого, для моих девочек.
– Или думает, что здесь легче в третий раз выйти замуж.
– Ты заметил, как она бесстыдно этого Орбеку ловила, он хорошо сделал, что убежал.
– Гм! Гм! – сказал Буковецкий. – Если захочет, сумеет его найти.
– Он ей не дастся.
– Это вопрос.
Только во время ужина разгорячённая водоворотом танца и безумия Мира заметила, что обратила против себя всё женское общество и хозяев, вскружив голову молодёжи; поскольку молодой Стась меньше всего её компрометировал, она обратилась к нему, а скорее начала отправлять более или менее невежливо, но решительно. Постаралась немного помириться с хозяевами, но с теми пошло как-то тяжелей, а когда перед утром уже уходила в свою комнату, один только обезумевший Стась её провожал.
Нам необходимо написать более обширную монографию этой женщины, чтобы дать вам её лучше узнать. Это тип был вовсе не редок, хотя экземпляр дивного в своём роде совершенства. Создание, в котором, быть может, билось сердце, но только под горячим впечатлением настоящего. Между вчерашним днём и завтрашним для неё не было никакой связи, одно не ручалось за другое. Страсти, фантазии, желания стирались по очереди. Было это настоящее хлопковое сердце, которое, сжатое, принимало на мгновение форму, ему данную, но тут же потом могло также принять другую, ничто постоянное на нём не рисовалось.
Голова и воображение вели её скорее, чем чувства, любила головой, ненавидела ею, но в этой голове царил дивный хаос и постоянное желание новых вещей. Были минуты, когда Мира становилась чувствительной, готовой к самопожертвованию, когда умела любить, была покорной, слезливой, сердечной; жалела о своих грехах, признавалась в них, гнушалась ими, но – увы! – были это только мгновения. А после них наступали безумства ещё более горячие, может, ещё более дикие. Была это жизнь горячек, драм, измен, слёз и улыбок, отчаяния и счастья, порезанных на мелкие кусочки.
Пережив много начинающегося счастья и отчаяния, которые должны были быть вечными, Мира никакого опыта из них не вынесла, мечтала как в первые дни весны, пила сегодняшние удовольствия, не заботясь о горече, какую они после себя оставляли; бросалась в боль, которую любой более мягкий порыв рассеивал. Словом, было это то «ветреное» создание поэта, фигуре которой завидуют ангелы, а в душе которой, может, не столько было зла, сколько неизлечимого легкомыслия.
Вернувшись в свой покойчик, уставшая, радостная, с мазуркой в голове, с шёпотом Стася в ушах, опьянённая триумфами, она упала на кровать, сказав себе, что нужно было серьёзно подумать о завтрашнем дне. Но это решение развеялось зеванием, сон пришёл склеить веки, и в мечтах она танцевала ещё, но уже только с Орбекой.
Она проснулась, удивлённая сама, что из всех, даже красивого Стася, более глубокое впечатление произвёл тот бедный, увядший человек, который так невежливо убежал, не попрощавшись.
В усадьбе после вчерашнего пира все спали, поэтому Мира имела время написать следующее письмо своей подруге, пани Люлльер, в Варшаву:
«Дорогая Пулу, я обещала тебе описать моё путешествие и открытия в диких краях, и хоть невыспавшаяся, ужасно уставшая, данное слово сдержу, ты должна быть мне благодарной. От тебя не имею тайн; ты знаешь, что я выбралась в эти Индии, ища немного новых приключений и немного, может, нового товарища для дальнейших экспедиций, потому что мне уже одной и скучно, и слишком долго так ни вдова, ни замужняя. В вашей Варшаве все со мной освоились, а это есть свет, что разводится, а не женится. Я, значит, поехала к достойной тёте. А! Представь себе, дороги в состоянии первобытной невинности, колеи повыбиты до внутренности земли, страшная грязь, ужасные корчмы; но леса цветущие, благоухающие, весна волшебная. Через несколько дней паломничества, сломав только два раза мою золотую каретку, немного поломанная сама добралась до тётки. Дом патриархальный, шесть девушек на выданье, балы, как кажется, каждый день, или через день, музыка составлена из евреев и цимбал, общество извечное, но молодёжь живая, охочая и парни ладные, как кровь с молоком. Пир Вальтазара! Что эти люди тут едят! Не имеешь представления, я устрашена, глядя только на это. Тётя и дядя de bien braves gens a l`antique приняли меня сначала холодно, потому что меня, видно, опередила какая-то репутация, et on est severe et rigide a la campagne, но я потом их сразу задобрила.
Представь себе, что я наткнулась на разновидность балика; был это пир, данный в честь, или уже там не знаю, как назвать, некоего пана Орбеке, который из бедного шляхтича стал миллионным паном, от наследства дяди.
Этот Орбека un original, misanthrope, сухой, жёлтый, не старый, не молодой, жизнь провёл на деревне над книжками и клавикордом, с одной собакой и слугой. Его только эти миллионы вытянули на свет. Вот, представь себе, я покорила его сразу. Смотрел на меня с восхищением, в каком-то остолбенении, точно на создание своих грёз, дрожал, говоря, бормотал… говорю тебе, я захватила его; играет очень хорошо, ты знаешь, Лулци, что и я неплохо играю, когда хочу. Вот, в этот день я захотела и вскружила ему голову сонатой Бетховена.