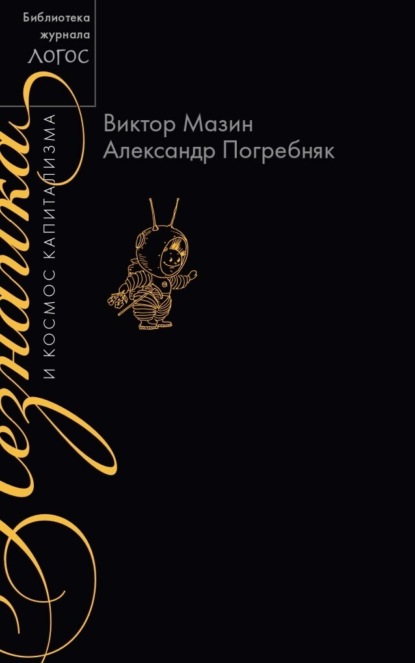Полная версия
Рассуждения о «конце революции»

Борис Капустин
Рассуждения о «конце революции»
Моим дочерям, Маше и Саше, посвящается
© Б. Капустин, 2019
© Издательство Института Гайдара, 2019
Введение
В современном политкорректном мире «революция» стала неприличным словом, словом-изгоем, чем-то вроде таких слов, как «негр», «слабоумный» или «извращенец». Кто, в самом деле, из серьезных людей осмелится использовать его, размышляя (во всяком случае, вслух) о злободневных и вроде бы даже «неразрешимых» проблемах наших обществ? Конечно, из этого правила есть исключения, и некоторые из них будут отмечены и рассмотрены в данной работе, но правилом-то остается то, что респектабельно о революции можно говорить, лишь придерживаясь жанра «история идей» или историко-социологически занимаясь прошлым, т. е. копаясь в том, что когда-то думали и делали они, но что мы сейчас не думаем и делать не собираемся.
Редкие же применения революции к нашему настоящему опыту только лишний раз показывают, насколько неприличным и девальвированным стало это слово. К примеру, говорят о «цветных революциях», но при этом – при мало-мальски вдумчивом их исследовании – тут же подчеркивают, что они, конечно же, не были событиями, «меняющими парадигмы», и что по классическим меркам социальных революций их таковыми считать никоим образом нельзя[1]. Виталий Куренной в свое время придумал для них изящный термин – «театральные революции»[2]. Театр – это великое искусство, но революция, сведенная к театральности, столь же бессмысленна, сколь общество, сведенное к спектаклю, у Ги Дебора. Более того, в такой редукции и революция, и общество оказываются угнетением.
Важно понять, что такими «цветные революции», а также схожие с ними другие явления современного мира, делают отнюдь не поражения[3]. Панъевропейская революция 1848 года, к примеру, потерпела гораздо более трагическое и в прямом смысле слова кровавое поражение. Но это поражение было таково, что «программу» этой побежденной революции победившая контрреволюция была вынуждена с удивительной полнотой реализовать вскоре после своего военно-политического триумфа[4].
Или так называемая «студенческая революция» 1968 года. Наверное, у Дэвида Аптера (и ряда других аналитиков) было достаточно веских оснований для того, чтобы заключить: она потерпела поражение и в качестве «культурной революции», и как собственно «политическая революция»[5]. Но, вероятно, и у Люка Болтански, и у его коллег были не менее веские основания для того, чтобы утверждать: 1968 год привел к фундаментальной перестройке капитализма, к появлению того, что они стали называть (делая кивок в сторону Макса Вебера) его «новым духом»[6]. Побежденные революции, несомненно, способны «менять парадигмы». Но даже те, что считаются победившими революциями в современном нам мире, как, скажем, украинская «революция достоинства», делать это не могут. В этом вся суть дела! Говоря совсем кратко, она в том, что в современном нам мире революций нет – ни победивших, ни побежденных, и именно поэтому его парадигма остается неизменной.
Конечно, тут же нужно сделать одно уточнение. Говоря, что в современном нам мире революций нет, мы говорим об освободительных народных революциях слева. В дальнейшем мы покажем то, что в известном смысле современный мир является как раз насквозь революционным: его охватила и его радикально трансформирует неолиберальная революция. Революция в этом словосочетании – отнюдь не эвфемизм, но важно помнить, что революции справа есть всегда «антиреволюции» (это относится к нацизму, всем видам фашизма и т. д.). Они не меняют парадигмы, но могут вполне революционно устранять из общества все то, что чревато их сменой, таким образом с любой (потребной для этого) степенью радикальности перестраивая общество.
Как можно осмыслить революцию в мире, в котором ее (в качестве народной освободительной революции) нет, не ограничиваясь рассуждениями о том, каким образом мыслили и что делали наши предки? Сама постановка такого вопроса парадоксальна, этим напоминая парадоксальность знаменитого вопроса Теодора Адорно о том, каким образом можно мыслить «хорошую жизнь» (понимаемую как суть морали) в мире, который «плох» (в мире, в котором «не может быть хорошей жизни»)[7]. Вероятно, попытки осмыслить революцию в таком не- или постреволюционном мире обернутся теми или иными версиями того, что Светлана Ильинская метко назвала «реквиемом по революции»[8]. Такие реквиемы (хотя при иной идеологической ориентации они могут звучать, как «оды радости») будут фиксировать кончину революции, обстоятельства, обусловившие ее, и выражать наше отношение к этому. Возможны модуляции мелодии: констатация смерти революции может уступить место рассуждениям о ее «маловероятности» в нашем мире и о факторах, которые это обусловливают. Суть дела от этого не меняется. Эта суть заключается в том, что, если ставить вопрос о революции (скажем, вопрос о возможности революции), отправляясь от наблюдаемого мира, в котором нет революции, то ответ на него уже предопределен такой постановкой вопроса: в этом мире не может быть революции (как и в вопросе Адорно о морали: в «плохом» мире не может быть «хорошей жизни»). Ответ уже заложен в вопросе – нам остается лишь выбрать те черты наблюдаемого мира, которым мы припишем – как причинам – отсутствие революции. Так конструируется то, что в этой книге я называю «аргументационной структурой тезиса о конце революции», рассмотрению которой она в основном и посвящена.
Мне думается, что в каждом из элементов этой аргументационной структуры есть свои слабости и изъяны, подрывающие их убедительность. Но общей слабостью и общим изъяном всей этой аргументационной структуры как таковой является то, что она не дает продвижение мысли по сравнению с той исходной позицией, на которой мы сформулировали вопрос о возможности революции: все, что в качестве аргументов входит в эту структуру, есть наблюдения над самой этой позицией, т. е. над не- или постреволюционным миром. Мы не смогли задать открытый вопрос – вопрос, открытый тому, что еще не известно в момент его формулировки, вопрос, который не был бы вовлечен в обманную и пустую игру повторений с ответом.
В самом деле, если мы уже предположили мир, в котором (гегелевская) диалектика «раба и господина» остановилась, в котором «раб» не хочет и не может даже бороться за власть (не говоря о том, чтобы взять ее), а «господин» уже не нуждается в «признании» «раба» и вообще не в состоянии добиться от того ничего, помимо обслуживания бессмысленного выживания обоих, то «конец революции» есть не какой-то особый момент в жизни этого мира, прийти к пониманию которого еще нужно особой аналитической работой, а само общее состояние мира, данное в его констатации. Это – состояние конца игры, который бесконечен и потому (политически и этически) бессмысленен, это – конец, неспособный положить конец самому себе, это, пользуясь выражением Адорно, – нечто подобное «пожизненному смертному приговору»[9]. Те из отчаявшихся (вчерашних) левых, которые полагают, что в этой ситуации рассчитывать уже не на что и ожидать нечего, помимо полной катастрофы, которая когда-нибудь произойдет и таким образом изменит мир, слишком оптимистичны[10]. В таком мире катастрофа может произойти, и финансовый коллапс 2008 года довольно близко подвел к ней и показал в общих чертах, какой она может быть, но и катастрофа ничего существенного не изменит, не приведет к «смене парадигм», если сохранятся нынешние субъектности «раба» и «господина» и, соответственно, нынешняя остановка диалектики.
Что же позволяет задать вопрос о революции, о ее «конце» или возможности так, чтобы он был открытым, чтобы ответ не был задан в самой его постановке? Наверное, для этого постановка вопроса должна быть исторической и конкретной. Объяснению в таком случае будет подлежать не «факт» отсутствия революций в нашем современном мире, изображаемый естественным моментом естественной эволюции «прогрессивного человечества», а вытеснение революции как результат определенных стратегий, действий, соотношения сил, формирования и развала некоторых общественных институтов, принятия и отвержения некоторых способов мышления и т. д. Репрессия революции всеми этими конкретными и динамично меняющимися обстоятельствами, среди которых далеко не последнее место займет неолиберальная революция/антиреволюция, и будет той новой исходной позицией, с которой можно будет поставить вопрос о революции в качестве открытого вопроса.
К какому новому знанию – в виде ответа на него – будет открыт этот вопрос? К знанию о том, чего стоила репрессия революции для того мира, из которого она изгнана, – иными словами, о том, как и в чем ее репрессия трансформировала наш мир. О некоторых чертах такой трансформации, пусть кратко, мы поговорим в последующих разделах данной книги (указывая источники, в которых эти черты обсуждаются гораздо более обстоятельно) – например, о бессилии общества перед капиталом, о выхолащивании демократии, о превращении социальной справедливости в «мираж», о чем Фридрих фон Хайек смел только мечтать еще в 70‐х годах прошлого века, и т. д.
Это будет тоже знание о фактах, но взятых уже не в их данности и естественности, а в их историчности и с их политическим содержанием. Говоря кратко, вопрос о революции должен быть поставлен так, чтобы он вел к новому знанию о нашем мире в его историчности, конкретности и в его политическом существовании, даже если это последнее – в его нынешнем проявлении – оборачивается беспрецедентно массированной деполитизацией. Современная теория революции может быть создана только таким путем, ибо она возможна только в качестве теории современного мира в целом, а не какого-то частного его (наличествующего или отсутствующего) элемента. Ведь революция для Современности— не только те ворота, через которые последняя вошла в действительность, но и ее духовный и политический лейтмотив, и, если последний исчез, то это не может не менять всю композицию Современности, так же как, например, без повторяющихся тем Зигмунда, Брунгильды или Вотана распалась бы вся музыкальная ткань вагнеровской «Валькирии».
В утверждении о том, что теория революции может быть только теорией современного общества, нет ничего нового, сколь бы это ни противоречило расхожим специальным концепциям революции в современной социологии и политологии, рассматривающим ее как частное и особое явление, которое лишь испытывает те или иные воздействия других особых явлений и элементов современного общества, предстающих при таком подходе факторами революции (экономическими, демографическими, психологическими, культурными, внешнеполитическими и иными). Марксова теория революции, со всеми ее достоинствами и недостатками, – это, конечно, политическая экономия современного общества в стиле Grundrisse и томов «Капитала», лишь особыми и наглядными проявлениями (и предвосхищениями) которой являются описания революционных событий, изложенные в таких блистательных сочинениях, как «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» или «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.». Отсутствие такой теории революции, адекватной современному неолиберальному обществу, делает нашу полемику с «тезисом о конце революции» фрагментарной, незавершенной и отчасти происходящей на «площадке соперника». Признаюсь, что к большему в настоящей ситуации я не способен.
Указанная выше проблема усугубляется тем, что Марксова политэкономическая теория революции не может быть адаптирована к современным условиям только посредством развития концепции капитала как таковой, сколь бы грандиозной эта задача ни была сама по себе. Необходима также как минимум перестройка исторической конструкции его политической экономии, необходимо переосмысление заложенного в ней и движущего ее принципа историзма. Он должен быть освобожден от (остаточного) телеологизма и пропущен через призму контингентности. Конечно, в этом плане уже сделано нечто весьма значительное. Когда Вальтер Беньямин пишет о том, что его задачей является «демонстрация исторического материализма, который упразднил внутри себя идею прогресса» и базисным понятием которого выступает «не прогресс, а актуализация»[11], то тем самым он обозначает путь перестройки исторической конструкции Марксовой политической экономии. Это тут же и самым непосредственным образом отражается на представлении о революции: «Маркс говорит, что революции являются локомотивами всемирной истории. Но, возможно, дело обстоит совсем иначе. Возможно, революции есть попытка пассажиров этого поезда, т. е. всего человечества, привести в действие тормоз экстренного торможения»[12]. Разумеется, не для того, чтобы навеки остановить движение поезда. Это нужно для того, чтобы перевести его на другой путь. Или, если готового другого пути нет, самим проложить его.
Но упразднение идеи прогресса подразумевает радикальное переосмысление того ее важнейшего для концепции революции следствия, которое я назову, заимствуя этот термин у Лейбница, предположением «предустановленной гармонии». Что оно означает применительно к революции?
Третий из Марксовых «Тезисов о Фейербахе» определяет «революционную практику» как «совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности»[13]. Это определение, с одной стороны, не содержит ничего специфического для «революционной практики», ничего такого, что позволяло бы отличить ее от «нереволюционных практик». В самом деле, самая рутинная наша деятельность как-то меняет обстоятельства, в которых она происходит, пусть непреднамеренно и пусть незаметным для нас образом (создавая медленно накапливающиеся «побочные эффекты»). И вследствие этого как-то меняется сама – современный консерватизм, в его отличии от досовременного традиционализма, вообще начинается с открытия того, что никакая традиция не может быть совершенно статична. Да и ставя вопрос в общем плане, разве может для материализма Маркса способность сознания отражать и предвидеть быть решающей для определения характера общественных практик (скажем, служить признаком, отличающим «революционные практики» от «нереволюционных»[14])? С другой стороны, остается не вполне понятным, чтó именно имеется в виду под «совпадением» изменения обстоятельств и деятельности. Должны ли мы ожидать, пока обстоятельства, возможно, при некотором участии нашей (нереволюционной) деятельности, изменятся настолько, что придут во взаимно однозначное соответствие с нашим видением революции, и тогда мы изменим нашу нереволюционную практику на революционную? Или, напротив, мы должны нашей деятельностью, готовящей революцию «здесь и сейчас» (скажем, в форме эксцитативного террора или партизанской войны в духе фокизма), менять обстоятельства так, чтобы немедленно привести их к совпадению с реальной и полноценной революционной борьбой? Сколько копий было сломано левыми в ХХ веке по поводу трактовок «совпадения» из третьего тезиса Маркса! Сколь глубокие расколы возникли в их рядах по этой причине!
Однако самое примечательное во всем этом – то, что для самого Маркса смысл «совпадения» из третьего тезиса, равно как и его отношение к «революционной практике», не являются проблемными. И именно политэкономия его «зрелых» сочинений (будто бы) проливает свет на то и на другое.
Обратимся к хрестоматийным формулировкам из его предисловия, предваряющего «К критике политической экономии». «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становления»[15].
Не будем обсуждать ту собственно политэкономическую часть этого высказывания, в которой описываются связи между производительными силами, производственными отношениями и общественными формациями, вызревание первых в недрах старого общества, что, в конце концов, кладет эволюционный предел развитию последнего и требует революции именно в качестве политического механизма появления более высоких производственных отношений, и т. п. Вероятно, многое в этом описании нуждается в уточнении, что мы отчасти попробуем сделать ниже, рассуждая о капиталистической перманентной революции. Сейчас же обратим внимание на историческую конструкцию этого высказывания и на то, чтó она говорит о революции.
Очевидно, что эта конструкция имеет характер линейно-стадиального прогресса, двигатель которого Маркс и пытается объяснить при помощи описания взаимодействия производительных сил и производственных отношений. Для революций эта конструкция, в которую они необходимым образом вписаны, означает то, что революции неизбежны, имманентно прогрессивны и объективно детерминированы[16]. Такая их детерминация подразумевает то, что революции свершаются только тогда, когда они полностью «созрели». Эта «зрелость» означает как раз «совпадение» изменения обстоятельств и нашей деятельности. Первые ставят перед нами только такие задачи, какие наша деятельность, тоже подготовленная историческим развитием, способна решать, ибо средства их решения уже даны нам в руки самим общим прогрессом общества. Но он же обусловил характер задач, поддающихся решению нами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См.: Mitchell, Lincoln A. The Color Revolutions. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012, p. 2, 212.
2
Куренной, Виталий. «Перманентная буржуазная революция», Прогнозис, 2006, № 3, с. 258.
3
То, что «цветные революции» (и схожие с ними явления) обернулись поражениями, стало почти общим местом в политической литературе. См., к примеру: Haring, Melinda and Michael Cecire. «Why the Color Revolutions Failed», Foreign Policy, March 18, 2013, https://foreignpolicy. com/2013/03/18/why-the-color-revolutions-failed/.
4
См.: Klima, Arnošt. «The Bourgeois Revolution of 1848–1849 in Central Europe», in Roy Porter et al. (eds.). Revolution in History. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, р. 98.
5
См.: Apter, David E. «An Epitaph for Two Revolutions Taht Failed», Daedalus, 1974, Vol. 103, No. 4, p. 87.
6
См.: Болтански, Люк и Эв Кьяпелло. Новый дух капитализма. Москва: Новое литературное обозрение, 2011, с. 297 и далее, с. 340 и далее.
7
См.: Adorno, Theodor W. Problems of Moral Philosophy. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001, p. 1.
8
См.: Ильинская, С. Г. «Реквием по революции», в: А. А. Вартумян, С. Г. Ильнинская и М. М. Федорова (ред.). Революция как концепт и событие. Москва: ООО ЦИУМиНЛ, 2015, с. 65.
9
См.: Adorno, Theodor W. «Trying to Understand Endgame», New German Critique, 1982, No. 26, p. 142, 144–145.
10
Хорошим примером тому служит «катастрофическая стратегия» Жана Бодрийяра. См.: Бодрийяр, Жан. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000, с. 47.
11
Benjamin, Walter. The Arcades Project. Cambridge (MA): The Belknap Press, 2002, p. 460.
12
Benjamin, Walter. «Paralipomena to „On the Concept of History“», in Walter Benjamin. Selected Writings. Vol. 4. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2006, p. 402.
13
Маркс, Карл. «Тезисы о Фейербахе», в: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения. Т. 3. Москва: Госполитиздат, 1955, с. 2.
14
Тем паче, что именно в деле революции способность сознания «адекватно» отражать реальность и предвидеть следствия наших действий проявляется слабее всего. Как выразил это обстоятельство Энгельс, «люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, – что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать» и т. д. Энгельс, Фридрих. «Письмо Вере Ивановне Засулич в Женеву. 23 апреля 1885 г.», в: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения. Т. 36. Москва: Госполитиздат, 1961, с. 263.
15
Маркс, Карл. «К критике политической экономии», в: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения. Т. 13. Москва: Госполитиздат, 1959, с. 7.
16
Все эти три момента революции – неизбежность, имманентная прогрессивность, объективная детерминация – уже были подвергнуты критике в отечественной печати. У Владимира Мау на их место приходят соответственно революция как «разрыв естественного хода событий», возможная консервативность революции, «необязательность» революции для решения стоящих перед обществом задач и каузальность, но не телеологичность революции. См. Мау, Владимир. Революция. Механизмы, предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций. Москва: Издательство Института Гайдара, 2017, с. 8, 9, 17, 30. Понятие каузальности здесь требует уточнения. Разумеется, в предреволюционной ситуации должны возникнуть обстоятельства, обусловливающие возможность революции и способные послужить ее триггерами. Но это, строго говоря, каузальность не самой революции как специфического события (или цепи событий), а деградации/распада тех общественных структур, сохраняющаяся цельность которых сделала бы революцию невозможной. Революция как «разрыв естественного хода событий» и означает прерывание действия старой цепи причин и следствий и запуск новой цепи. Собственная каузальность революции начинает выстраиваться в той логике, которую Мау называет «стихийностью» и которую я предпочитаю называть «спонтанностью».