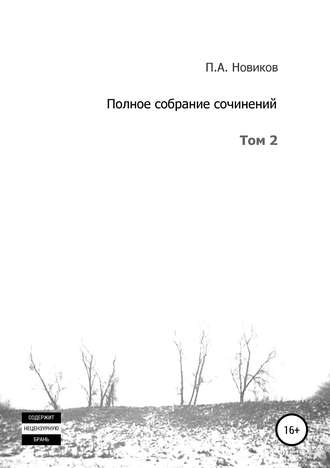 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 2
– Позвольте с вами не согласиться, Владимир Николаевич, совесть– это, конечно, приобретённое; у животных совести нет, но это не навязанное, как вы утверждаете, а внутренне необходимое.
– Зачем?
– Ответная реакция на растворение собственной самости в людях.
– Не, ну это…
– Совесть вообще не сдерживает, а призывает.
– Ну не знаю, Виталий Андреевич, вот Я её, например, совершенно не чувствую, да и никто не чувствует, так что же это тогда за прокурор такой получается, если его и не видно, и не слышно?
– Владимир Николаевич, не обобщайте.
– Господа, совесть– это же ведь наказывающий элемент «Сверх-Я», так ведь?
– Да.
– Ну и?
– Следовательно, если совесть и имеет призывающий характер, то она призывает к любви к Людям и отказу от эгоизма.
– Нет, это ещё у кого какое «Сверх-Я», вот у зеков…
– Я вообще не согласен, что совесть имеет призывающий характер. «Сверх-Я», как фундамент совести, уже само есть Мне навязанный идеал, Мои рамки, Мои пределы; если угодно– это механизм ограничения Моей воли к власти.
– Она именно призывает, Владимир Николаевич.
– Да, призывает.
– И к чему же это она призывает?
– Я же сказал, к любви к людям, к отказу…
– Да нет, Пётр Дмитриевич, уж к людям она никак не призывает, как раз-таки наоборот, она призывает к отказу от людей, то есть, к своей самости.
– Призывает, призывает… Да с чего хоть вы это взяли?
– Ну как же…
– Совесть– наказывающий элемент «Сверх-Я», так?
– Но здесь ещё…
– Нет, она…
– А «Сверх-Я» в основе своей – это мораль.
– Это– да.
– Ну.
– А мораль, прежде всего, навязывается государством…
– Но…
– …чтобы люди давили в себе волю к власти, и чтобы, следовательно, государству спокойней жилось. То есть совесть– внутреннее проявление навязанных государством рамок, сдерживание в рамках, о каком призыве тут вообще может идти речь?
– Что ж вы так невзлюбили государство? Можно подумать, когда не было государства, не было морали.
– Не в том сейчас вопрос, главное, что совесть сдерживает, а не призывает.
– Что сдерживает, Владимир Николаевич?
– Волю к власти.
– Я не волюнтарист, и воля к власти для меня– это нечто равное нулю, следовательно, если совесть что-то и сдерживает, то только разум, а что в нём можно сдерживать? И раз совесть– производная морали, как вы сами сказали, то по определению она должна сдерживать эгоистические стремления, а это разве не призыв к любви к Людям?
– У нас слишком большие различия в самом фундаменте. Разум– ничто, жалкое орудие, главное– воля.
– Мы об этом уже говорили.
– Да, но так и не пришли к согласию.
– Вот именно, поэтому нам сначала надо бы…
– Да нет никаких «воль»!
– Пётр Дмитриевич, Владимир Николаевич абсолютно прав, вы просто слепо отказывайтесь верить фактам.
– Какие ещё факты?
– Антропологические.
– И что же это за факты, интересно?
– Изначально были одни только инстинкты, это лишь потом к ним примкнуло сознание «…на месте следа воспоминания», а фундамент и надстройки не могут поменяться местами.
– Виталий Андреевич…
– Конечно, надстройки могут быть настолько большими, что фундамент совершенно не будет виден, но от этого он не меняется, он всё равно первичен.
– Виталий Андреевич, вы мешаете в одну кучу совершенно несовместимые понятия. Да, инстинкты– это фундамент, животные инстинкты, из них всё вышло, но воля к власти или ещё какая бы то ни было воля– это не животный инстинкт, понимаете?
– Животные…
– А животные инстинкты… С ними разум может легко справиться, иначе такие вещи, как суицид или секс в презервативе были бы невозможны. Уж извините за сопоставление.
– Но ведь есть такое понятие, как трансформация.
– Здесь это…
– То есть фундамент приобрёл новые свойства, изменился, но от этого он не перестал быть фундаментом.
– Владимир Николаевич, уж извините, но я этих свойств в упор не вижу.
– Воля к власти…
– Вот я и говорю– не вижу; может, всё потому что их нет?
– Ладно, ладно. Для чего была придумана мораль?
– Она не была придумана, она была следствием и необходимостью.
– Необходимостью для чего?
– Появилась собственность, появилась власть, как следствие, появились эгоистические стремления, Человеку же, в основе своей, они чужды, и как ответная реакция на это неестественное состояние появилась мораль, а внутренне– совесть, призывающее вернуться к исходному состоянию и освободиться от эгоизма.
– Ох, как вы не правы, Пётр Дмитриевич. Да, совесть– это необходимость, ответная реакция, но реакция на появление в структуре психики воли к власти, для её сдерживания она и появилась; чтобы все мы не поубивали друг друга.
– Вы…
– Причём необходимость эта не внутренняя, как вы говорите, а внешняя: самосохранение общества, государства.
– Я хочу сказать…
– Пётр Дмитриевич, Владимир Николаевич правильно говорит, он…
– Нет, ну вы…
– Мы…
– Совесть не сдерживает волю к власти и не призывает к отказу от бытия-среди-людей, а призывает к отказу от эгоизма, это вытекает из самих свойств морали. Если ты не уступил место бабульке– тебя хоть совсем немного, но совесть мучить будет…
– Ну это кого как.
– …и очевидно, что не потому, что ты отказываешься от самого себя и не потому, что ты тем самым проявил свою власть, а только потому, что ты пошёл против себя, проявил эгоизм. Разве не так?
– Да при чём здесь «Я»? Совесть относится к «Сверх-Я», и в этом случае совесть Меня мучает не потому, что Я иду против самого себя, а потому, что Я иду против своего «Сверх-Я», а оно на девяносто девять процентов есть олицетворение морали, и эгоизм или эта ваша любовь к людям здесь совершенно ни причём.
– Владимир Николаевич, совесть фундирована внутри, а не навязана, в этом вся суть.
– Хорошо, допустим. Значит, совесть призывает к любви к людям, и возникла она как сдерживающий фактор эгоистических стремлений, причём возникла изнутри, так?
– Совершено верно.
– Бог и человек как-то связаны?
– То есть?
– Призывая к людям, совесть хоть как-то «цепляет» бога?
– По этому вопросу обратитесь к Константину Станиславовичу; вот когда он придёт…
– Ваше мнение?
– На мой взгляд, конечно же, нет, ибо бога нет, а совесть ни прямо, ни косвенно не может призывать ни к чему.
– Хорошо. А теперь представьте, что вы верующий человек.
– И?
– Разве вас не будет мучить совесть, если вы долго не будете ходить в церковь или плохо скажете о боге?
– Тут… Как бы…
– Вот именно, что будет, хотя ни о каком призыве к людям тут, само собой, и речи не идёт; зато идёт речь о том, что принципы отношения к богу у верующего коренятся в его «Сверх-Я», в его идеале, который, и это очевидно, был ему навязан.
– Что-то тут…
– Но ведь совесть будет мучить?
– Да, будет.
– Ну тогда только получается, что бог и люди– это одно и тоже, или, по крайней мере, и любовь к богу, и любовь к людям присущи нам изначально, может быть, вы стали верующим? Только так можно объяснить не навязанный характер совести.
– Да уж, Пётр Дмитриевич, противоречие.
– Виталий Андреевич…
– Так что совесть навязана, а ничто внешнее в любом случае не может призывать к внутреннему, следовательно, раз она не пытается втиснуть вас в рамки, так как работает она только как ответная реакция на определённое раздражение, то значит, она пытается не выпускать вас за них, то есть сдерживает. А что она может сдерживать, если, как вы и сами говорили, в разуме как таковом сдерживать нечего?
– Что?
– Если не разум, то воля. Воля же слепа, эгоистична по определению, она не поддаётся размыканию или изменению, она «вещь в себе», а главное и очевидное стремление эгоизма– власть, отсюда выводим, что воля к власти существует, и, более того, она есть основа всего.
– Владимир Николаевич, вы всё правильно говорите, за одним только исключением: главная цель эгоизма– не власть, а я сам, то есть моя самость; зачем мне власть, если меня нет?
– Главная цель эгоизма– это отдельный разговор, да и вообще нет во Мне никакого «меня», весь Я и есть Я, так что ваша поправка изначально лишена смысла.
– Но разве люди не похожи друг на друга?
– Каждый человек– неповторимая личность, а так похожи мы только потому, что все воспитываются по одним стандартам и живут в одном мире.
– А как же…
12.03.03 20:13 – 20:19
– Совесть…
– Чего это ты там шепчешь?
– Совесть проистекает изнутри или извне?
– Тебе лучше знать.
– Если совесть– это внешнее, она ж не может призывать к внутренним стремлениям, так ведь?
– Что это с тобой сегодня?
– Да так…
– Ясно.
– Ведь действительно, христианина же будет мучить совесть?
– Ты это к чему?
– Будет. Меня же будет мучить, если я целый вечер проваляюсь на диване, поддавшись лени. Идеалы… «Сверх-Я» у меня такое, а я-то думал…
– Что-то я тебя совсем не понимаю.
– Да, получается, совесть фундирована в «Сверх-Я», а это есть система ценностей, идеалы, рамки, они всегда не свои.
– Ты хоть говори громче, а то бубнишь себе под нос.
– Да это я так, думаю вслух.
– А-а.
– Просто мне сказали…
– А ты больше слушай, они наговорят.
– А как же не слушать? Куда ж деваться?
– Уходи.
– Ну ты скажешь тоже. Бегство от проблемы, это ещё не её решение.
– Ты бы…
– Ира, ну не мешай.
– Ладно, молчу.
– Да, получается, что совесть– это чувство, сдерживающее Человека в определённых рамках и не более того. В таком случае, она по определению не может иметь призывающий характер; если я, конечно, не вышел за эти рамки. Почему я раньше этого не анализировал? Н-да, ошибочка вышла.
– Чай будешь?
– Но ведь тогда получается, что раз уж совесть сдерживает, сдерживает в рамках, то какие стремления она сдерживает? Нехорошие – это очевидно, суть эгоистичные. Так получается-то одно и тоже… Нет. Или да? Нет, не то…
– Так ты чай будешь, или нет?
– Буду, буду. Что-то я запутался. Надо идти от определения, от фундамента. Совесть в любом случае связана с изначальной Человеческой основой, с Его изначальными стремлениями и свойствами; именно к ним она и призывает… Или сдерживает? Вот в этом главный вопрос.
– Ты…
– Ну, Ир!
– Молчу.
– Было установлено, что не призывает, следовательно, от противного, сдерживает. Но совесть же по определению сдерживает эгоизм, а значит наша основа эгоистична… Изначальные стремления Человека эгоистичны!
– На твоём лице такой ужас… Да, молчу, молчу.
– Выходит так, вроде никакой ошибки в суждении я не допустил. Но это же… Это…
– Иди, мой руки.
– Сейчас. Тогда о каком коммунизме может идти речь? Коммунизм– это же общество без рамок, что же тогда будет? Мы же все просто поубиваем друг друга; делай что хочешь, на сколько сил хватит… Беспредел? Хаос? Нет, бессмыслица, что-то не то; это же Человек, это…
– Я собираю на стол, иди мой…
– Да иду.
– Ну что ты кричишь?
– Извини.
– Это тебе этот Владимир…
– Владимир Николаевич.
– Да, Владимир Николаевич, мозги запудрил?
– Да он. И ещё как запудрил. Такое ощущение, что вся моя система… Нет где-то должна быть ошибка.
– Ну, опять…
– Совесть является необходимостью, это ясно; у животных же совести нет? Так, дальше. Теперь вопрос в том, какая это необходимость: внутренняя, или внешняя? Внешняя. И нужна она для сдерживания основных эгоистических стремле… Стоп!
– Ой, ты меня напугал.
– Вот где ошибка-то! Да, совесть– это внешнее, это необходимость, ибо Человек не в силах сам сдержать свой эгоизм, который, в свою очередь, является защитным фактором и следствием неравенства, то есть он не изначален. Надо всего лишь принять тот факт, что Человек не в силах сам дать отпор миру. Вернее, в силах, конечно, но кому это надо? Да, совесть навязана, совесть сдерживает, но не основу, а механизмы бегства от основы; внешнее проявление изначальных стремлений.
– Чай…
– Это же очевидно; если эгоизм приобретён и навязан, то и как следствие, совесть, как его сдерживающий механизм, тоже должна быть приобретена извне. Всё правильно. И что она имеет не призывающий характер– это не так уж и важно, суть от этого не меняется.
– Так ты чай будешь или мне его выливать?
– А?
– Всё уже давно собрано.
– Ах да, сейчас, только руки помою.
– Наконец-то.
– Ну, Владимир Николаевич, так запутать, так…
– Давай быстрей, а то всё остынет.
– Иду, иду.
19.03.03 15:16 – 15:26
– …мир меняется.
– Да он и не может не меняться.
– Это, конечно, да, но меняется он почему-то только к худшему.
– Ну, это ещё смотря с какой стороны посмотреть.
– С нашей.
– В какую же ещё сторону он будет меняться, коли люди даже в Господа Бога веровать перестали?
– Да не в этом дело.
– На мой взгляд, дело в том, что Человек становится всё более и более эгоистичным; соблазнов много, а тем самым он идёт против себя самого и…
– Человек всегда был, есть и будет эгоистом, это основа человека…
– Ну, я бы…
– …так что вся проблема взаимоотношения мира и присутствия фундирована в совершенно другом.
– В чём же?
– Бог…
– Люди стали умнее; люди стали понимать себя именно как людей, при этом они во всё больше нарастающей массовости стали терять то, что поняли, отсюда и все проблемы.
– Виталий Андреевич, вы не правы. Взгляните на историю, когда люди верили в Бога…
– Да, раньше смыслом жизни было попасть в рай, а для этого было необходимо верить в бога, жить по чести и тому подобное, но, как я уже говорил, человек стал умнее.
– Вы так говорите… разве верить в Господа– это глупо?
– Да.
– Да.
– Вы…
– Абсурд…
– Абсурд?
– Да, мы же говорим по существу об абсурде?
– Я бы не назвал это ни абсурдом, ни тошнотой, ни как бы то ни было ещё; это противоречие не между нами и миром, а между нами настоящими и тем, чем мы являемся.
– То есть?
– Эгоизм…
– Ясно. Боюсь, Пётр Дмитриевич, вы ошибаетесь.
– Почему же? Отчасти Пётр Дмитриевич прав, в том смысле, что абсурд, то есть проблема взаимодействия мира и человека, будем так это называть, если вам угодно, коренится именно внутри, и это действительно противоречие, но противоречие между Истинными стремлениями, нашим Предназначением и выдуманными нами: славой, богатством…
– Здесь вы, Константин Станиславович, абсолютно правы. Эти цели действительно ничего не стоят, ибо они только отдаляют людей друг от друга, а, следовательно, противоречат изначальной Человеческой природе.
– Господа, абсурд проистекает из отношения присутствия и его бытия. Человек просто теряет смысл жизни, он не знает, что делать и как с этим бороться; в самом же человеке никакого абсурда не может быть в принципе.
– Да это Человек никогда не знал своего предназначения, но столько самоубийств и депрессий как сейчас не было.
– Претензии стали больше, массовость опять же. Да и раньше была хотя бы видимость смысла: бог, свобода, равенство… А сейчас эти отговорки уже мало кого устраивают.
– Виталий Андреевич, Бог– это далеко не выдуманный смысл, ибо в Боге истина, а следовательно, отказываясь от него, ты отказываешься и от смысла.
– Бог– сказка, выдумка. Это, конечно, может сойти за смысл, но только сойти.
– Да, Константин Станиславович, Пётр Дмитриевич правильно сказал, причём бог может быть смыслом только или тогда, когда не хватает ума на другой, или когда больше уже ничего не остаётся.
– Вот именно. Бог– последняя надежда в безнадёжной ситуации, соломинка для утопающего, ведь надо же верить хоть во что-нибудь.
– Вот именно, Пётр Дмитриевич, что последняя, а почему? Потому что, отказавшись от мишуры, человек приходит к сути, то есть к Богу.
– Нет, просто Человеку свойственно верить; Он не может не верить, в вере спасение.
– Вот здесь я с вами не согласен. Именно в отказе от всякой веры, суть надежды, можно преодолеть абсурд, спастись от него.
– Спастись от него можно только искоренив его причину– внутреннее противоречие между природой и эгоизмом.
– Это не внутреннее.
– Вся проблема бытия Человека заложена внутри и только внутри.
– Между, Пётр Дмитриевич, между…
– Как же…
– Ну, хорошо, что такое абсурд?
– Состояние, при котором Человек больше не может так жить.
– Не совсем. Не так жить, а просто жить, так как теряется всякий смысл, всякая вера, а ведь без веры нельзя и гвоздя забить.
– Тогда получается, что от него вообще нельзя спастись.
– Можно. Позабыв о такой вещи, как надежда, ибо «Ты перестанешь бояться, если и надеяться перестанешь».
– «Окончательно соскучившись, мы перестаём скучать», да?
– Вроде того.
– Это глупо.
– Почему же? Виталий Андреевич прав, разве что смысл не только в том, чтобы спастись от мелких забот жизни, но и через это прийти к Господу.
– Ещё не легче. Зачем идти к тому, чего нет?
– Отказавшись от надежды, от жизни-в-людях, мы переориентируемся на самих себя, а только найдя своё «Я» и смысл жизни, можно стать счастливым. Спасение в уединении.
– Вы не правы, Виталий Андреевич. Что есть абсурд? Противоречие. Где оно коренится? Внутри. Где искать смысл жизни? В природе Человеческой. Чего мы лишаемся в состоянии абсурда? Смысла жизни, но смысла надуманного, неистинного. Так где же тогда противоречие? Между Человеком как таковым и его природой, между исконными и приобретёнными стремлениями, а бытие– всего лишь толчок к возникновению абсурда.
– И как же от этого «абсурда», по-вашему, можно спастись?
– Прийти к внутренней гармонии, то есть принять свою природу.
– Отказаться от эгоизма?
– Да.
– То есть, выходит, надо помогать людям, любить их и тому подобное?
– Совершенно верно.
– Уважаемый Пётр Дмитриевич, по-моему, вы не совсем понимаете, что такое абсурд.
– Это почему же я не понимаю?
– Всё дело в том, что «абсурд»– это категория экзистенцианализма, в гуманизме же, коммунизме, эта категория упрощается до банального понятия «депрессия». При депрессии, действительно, человек противен самому себе, личность его обесценивается, и чтобы поднять её вес в своих же глазах, надо поднять его в чужих, то есть помогать, любить и так далее, иначе кто ж тебя оценит?
– В принципе, так, и именно в этом и есть спасение от абсурда.
– Это спасение не от состояния абсурда, а всего лишь от депрессии.
– Что-то я не вижу особой разницы.
– Дело в том, что при депрессии, прежде всего, обесценивается личность и как следствие - все её действия и стремления, поэтому и теряется смысл жизни. То есть, ты видишь, что вокруг тебя кипит жизнь, а ты ничто, ты ничего не можешь сделать. При абсурде же обесценивается мир, а не ты сам, и только понимая, что ты тоже часть этого мира, тоже лишаешься всякого смысла существования. Чувствуешь, что должно быть что-то большее, что это понимание бытия далеко не истинно, что не для того ты живёшь. Отсюда и абсурд: между тобой и миром.
– Что-то я…
– Теряется связующая нить между собой и своим бытием.
– Тогда… Да, я понимал эту категорию неверно.
– Quod erat demonstrandum.
– Честно говоря, абсурд я понимал не так, не такие брал истоки.
– Так как же тогда от него спастись?
– Ну…
– Господа, в мире и не может быть смысла.
– Константин Станиславович…
– Смысл за миром, Господь…
– Короче, действия всё равно, в принципе, те же: откажись от надежды, от мира, уйди в себя…
– И думай о Боге.
– Думай о смерти. Только оценивая себя от начала и до конца, можно прийти к себе.
– Смерть… «Со смертью, по сути, мы никогда не встречаемся: когда мы есть – её нет, когда она есть– нас нет».
– Пётр Дмитриевич, главное, что думая о том, ты уходишь от потерянности в людях и отказываешься тем самым от человеко-самости, приходя…
– Да, Виталий Андреевич, это главное, уйти прочь от людей, ибо сейчас люди грешны, а в грехе…
– Ни к чему, кроме как к самоубийству, такой образ жизни привести не может.
– В некоторых случаях.
– В большинстве случаев.
– Может быть и так. Но дело здесь не в образе жизни, а в слабости человека, это…
– Ничего себе слабость! Добровольно уйти из жизни– по-моему это более чем сильный поступок.
– «…это согласие с собственными пределами». Человек же в состоянии абсурда, по идее, не должен быть согласен со своими пределами, это у мира предел, так что тем самым он просто сдаётся этому миру.
– Нет, Виталий Андреевич, он не сдаётся, он его уничтожает, правда вместе с собой. Как там у Достоевского? «Я приговариваю этот мир…»
– Это не бунт, это… Как бы вам сказать? Ты хочешь уничтожить мир, хочешь, значит, надеешься, вот из-за того, что ты не полностью отказался от надежды, ты и вынужден прибегать к бегству: не по зубам оказалось, не по силам.
– Надежда– это двигатель, только благодаря ей, Человек может жить, и без неё не то что бунтовать…
– Я слышу, вы о надежде речь ведёте?
– Здравствуйте, Владимир Николаевич.
– Добрый день.
– Здрасти.
– Не совсем.
– И о чём же тогда, если не секрет?
– Об абсурде и атараксии, как единственном средстве спасения от него.
– Константин Станиславович, ну здесь не совсем атараксия…
– Я же говорю, что нужно не просто отказаться от такой жизни, но и веровать, к Богу стремиться.
– А я…
– Интересно.
– А почему вы улыбаетесь?
– Потому что смешно мне.
– По-моему в состоянии абсурда нет ничего смешного.
– Абсурд– состояние, при котором теряется смысл жизни?
– В принципе– да.
– То есть то, что в жизни вообще есть смысл – это у вас берётся a priori.
– Что-то я вас не понимаю.
– Виталий Андреевич, для человека «Нет другого смысла жизни, кроме того, который он придаёт ей».
– Но не просто так же мы живём, должно же быть какое-нибудь предназначение?
– Константин Станиславович, с чего ж вы взяли, что оно должно быть?
– А как же иначе?
– У червяка есть предназначение? У воробья есть? Нет. А человек– это всего лишь следующая ступень эволюции этих червяков и воробьёв, так с какой же это стати должно появиться это ваше предназначение?
– Тогда почему же…
– Всё от морали и от религии. Они навязывали нам идеалы, они тысячелетиями создавали наше «Сверх-Я», они выдумали эту трансценденцию, которую в той или иной форме мы до того считаем естественной и очевидной, что даже мысли не возникнет, что это всё выдумки.
– Да какая ещё трансценденция?
– Если брать более или менее современную историю запада, то мы увидим, что сначала была трансценденция христианская: ты живёшь для того-то, ты должен быть таким-то, бог и всё такое…
– И это единственно правильное отношение к такому феномену, как жизнь.
– Покажите мне хоть одного кроме вас, кто бы думал также. Люди умнеют, Константин Станиславович, и эта трансценденция уже перестала убеждать. Потом появилась новая– сам человек: человек– венец природы, человек должен покорить природу, и жить ты должен, как «Человек» и ради «Человеков»…
– Вы так говорите…
– А потом раз! Человек снова поумнел и понял, что сволочь он на самом деле, в гуманистическом понимании, конечно же, что нужны ему слава, богатство и власть, но ведь это как-то…
– Не надо утверждать…
– …нехорошо, да и тут как раз люди стали…
– …что это в Человеке от природы.
– Пётр Дмитриевич, пусть договорит.
– …как на дрожжах плодиться, вот и новая трансценденция: «Я», «Самость», всё, что от людей– не благо, в тебе есть нечто… Но это вообще мало кого устроило, тогда появилась такая категория, как «абсурд», так как не находилось больше логичных трансценденций, мол, в моём существовании должен быть смысл, его просто не может не быть, а этот мир…
– Вы слишком…
– Я и мир… Абсурд! А получается, где этот абсурд на самом деле? Между человеком и его бытием? Нет, «никак».
– Да где хоть он ещё может быть?
– Где?
– Да, где?
– Абсурд возникает между человеком и его трансценденцией: «я должен быть кем-то иным, нежели тем, кем я сейчас являюсь», при этом сам человек и мысли не допускает, что «кто-то иной»– это спрессованные годами и людьми выдумки христиан, гуманистов…
– Это не выдумки.
– Очень интересное понимание абсурда и проблем бытия в целом.







