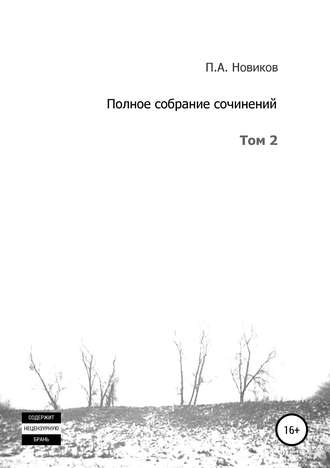 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 2
– То есть стать ничем и обрести ничто.
– Вот здесь Владимир Николаевич прав. Если я убегу от людей, ради кого и ради чего мне тогда жить?
– Ради себя.
– Опять же эгоизм.
– Я бы сказал ради себя для Бога, ибо только в самом себе можно отыскать путь к Богу.
– Это, конечно, уже не эгоизм, но в боге я вообще не вижу никакого смысла. Религия принижает значение Человека, возводит его в ранг ничтожной твари, нивелируя все его стремления.
– Это точно.
– Вот даже Владимир Николаевич согласен.
– А человек и есть ничтожество.
– Как так?
– Да, Константин Станиславович верно говорит, и человек и жизнь ничтожны.
– Виталий Андреевич, вот вы говорите, говорите… Ну так откажитесь от жизни, уйдите в себя, вернее попробуйте уйти в себя, ведь ничего же у вас не получится.
– История знает примеры…
– Да какие там примеры? Как будто те же стоики были этакими невозмутимыми отшельниками.
– А разве нет?
– «Невозмутимость мудрецов– это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца». Все они были обычными людьми, и цель у них была такая же, как и у всех людей– власть; для того и писали.
– Позвольте с вами не согласиться, Владимир Николаевич, разве у Сенеки было мало власти? Разве Марк Аврелий был известен прижизненно как философ? Они именно уединялись, размышляли; они ведь что писали, так и жили. И заметьте, жили, в отличие от многих, счастливо.
– То-то мало кто из умных людей закончил жизнь нормально. Половина – суицид, остальные или с ума сошли, или несчастный случай какой-нибудь.
– Суицид– нормальное завершение нормальной жизни.
– Виталий Андреевич, а как же «Суицид– это согласие с собственными пределами»?
– Не вижу здесь никакого противоречия. Если я уже достаточно пожил, если незачем мне больше жить, значит, это для меня предел, и выход тут один– самоубийство.
– Самоубийство– грех. Едино лишь Господь Бог может распоряжаться твоей жизнью.
– Так ведь, если сам бог избирает мне судьбу, значит, он сам и захотел, чтобы я покончил жизнь самоубийством.
– Но здесь…
– Самоубийство, смерть, к цели жизни никакого отношения вообще не имеют, поэтому…
– Ну почему же смерть не относится к цели? «Целью всякой жизни является смерть», так что очень даже относится.
– Если бы смерть была целью, мы умирали бы, как только начинали мыслить.
– Фрейд, вообще-то, мягко говоря, имел в виду не суицид и не…
– Нет, ну Виталий Андреевич, конечно, слегка преувеличивает, но действительно, только думая о мимолётности своей жизни, о смерти, можно встать на путь к Богу.
– Да, memento more, только заступая в бытие-к-смерти, человек может отыскать самого себя.
– И, следовательно, Бога.
– Нет, только самого себя.
– Это глупо. Да и все эти… Тот же Сенека противоречит сам себе, то «Кто страдает раньше, тот страдает больше, чем нужно» или «Есть ли что более жалкое и глупое, чем бояться заранее?», а в другом…
– Не вижу здесь ничего…
– Ничего себе «ничего»! Это говорит о том, что он по большей части сам не понимал, о чём писал, такой поверхностный разбор и…
– Только Бог…
– Странные вы какие-то вещи говорите.
– Почему же?
– Что есть конечная цель? Счастье.
– Я бы…
– Во-первых, оно может быть садистским – власть; во-вторых, мазохистским – смерть и пути к ней; и, в-третьих – это счастье обретения себя в мире, в обществе, без претензий, то есть без садизма и без ненависти к себе, то есть без мазохизма. Это есть настоящее счастье, а оно может быть достигнуто только любовью к Человеку, только в жизни на благо не самому себе, но Людям, на благо прогрессу; «Каждый обязан действительно использовать своё развитие для блага общества».
– Человек не может любить человека. Homo homini lupus est. Если всё эгоистично, с чем мы, в принципе, почти все согласились, то…
– Я не соглашался.
– …ни о каком счастье «в любви» и речи быть не может, просто не существует такой любви.
– Существует.
– И где же вы её видели?
– Я…
– А вот счастье победы, счастье власти– это пожалуйста, это сколько угодно.
– Владимир Николаевич, когда есть власть, её всегда можно потерять, а следовательно, возникает страх, а счастье в страхе – уже не счастье. А чтобы не бояться, надо отречься от источника страха– от жизни, то есть уйти в себя и думать о смерти.
– Что-то я не понимаю, а причём здесь смерть?
– Если о ней не думать, то возникает надежда, а ведь «Надежда есть худшее из зол, ибо она продлевает мученья человека».
– Мне смешно. Думать о смерти… И в этом, по-вашему, спасение от страха? Это всего лишь замещение одного страха другим.
– Да-да, Владимир Николаевич прав, зачем думать о смерти? Просто чтобы достойно её встретить? Как же можно свести смысл всей жизни к одному мгновению, которое даже не сможешь осознать?
– Я не стоик, подчёркиваю это ещё раз, и думать о смерти надо вовсе не для этого. Не стоит мешать в одну кучу Сенеку и Хайдеггера.
– Ладно, хорошо.
– Я просто хочу сказать, что в жизни нет ничего хорошего.
– В жизни есть Люди, а на том свете их нет.
– Поэтому там и лучше.
– Да, людей стоит любить только за то, что они средства.
– Не любите вы Людей, вы…
– Да за что их любить-то? «Люди существуют только для того, чтобы их критиковать, осмеивать и до конца презирать». Только Я– Человек, все остальные– мои средства, средства для достижения власти.
– Эх, вы все сбились с пути истинного, вы не верите в Бога, от того и все ваши проблемы.
– Да кто он такой?
– Владимир Николаевич…
– Он– Бог, и этим всё сказано.
– Он… «Нет никого под солнцем ничтожней вас, богов!».
– Владимир Николаевич, вы бы…
– От него же ничегошеньки не зависит, для Меня он ничто и никто, только Я есть Бог, и если Я захочу, по-настоящему захочу, то и гора с места сдвинется и…
– Господа, не надо ругаться.
– Вы ещё со своим «Человеком» начните.
– Вот не слушаете вы меня. Я же говорю, зачем создавать столько проблем, тратить свои нервы, время, когда можно просто отречься…
– Мне противно это…
– Бог вас…
– Любовь к Человеку…
– Откровение…
– Заступание…
26.02.03 17:31 – 17:36
«Нет, всё-таки они не правы. И главная ошибка у них в априорном понимании того, что присутствие может бытовать как самость среди себе подобных. Это сказки. Такого не было, и быть не может. Странные они…
Да, безусловно, конечная цель присутствия, какое бы оно ни было– это счастье; смысл всего бытия-в-мире в обретении и удержании счастья. Но разве можно приобрести себе это уверенное, непоколебимое счастье, вообще не имея себя? Межчеловеческие отношения в принципе не могут быть идеальными, так как здесь слишком многое зависит не от тебя, а значит, если ты и обретёшь счастье, то разве ж надолго? Нет. Среди людей нельзя быть счастливым. Вернее нет, можно, конечно, но, только не замечая, событуя и не более того, не через них, отказавшись. Это же аксиома, даже ребёнок понимает, что любая радость может быть испорчена каким-нибудь дяденькой в течение нескольких секунд. Вот, ребёнок понимает, а они нет. Их системы имеют право на существование только при принятии того условия, что всё зависит только от тебя самого, ведь только тогда можно не разочароваться.
Так ведь получается, что если нельзя обрести покой и счастье среди, безусловно, в метафизическом понимании, людей, то как же ещё его обрести, если не одному и не через себя? А как прийти к себе? В мире слишком много «шума», чтобы расслышать себя, своё «Я». Чтобы быть счастливым, надо прийти к себе; чтобы обратиться к себе, надо убрать «помехи», чтобы убрать, надо просто их игнорировать, не замечать, то есть надо игнорировать жизнь, ибо жизнь, по сути, и есть люди, если понимать жизнь, как бытие присутствия, суть тематически узконаправленно. «Сделай свою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о ней».
Но чтобы познать, изучить объект, в данном контексте обрести его, ибо, не зная, нельзя и иметь, нужно, как минимум знать его размеры. Для присутствия же это означает, нужно знать свой предел, а предел любого– смерть. Чтобы отречься от жизни, нужно думать о смерти; чтобы разомкнуть свою самость, надо тоже думать о смерти. Эти два силлогизма настолько ярко пересекаются друг с другом, настолько дополняют друг друга, что смысл бытия напрашивается сам собой.
В конце концов, зачем нужна жизнь, если она приносит только несчастья? Счастье в жизни мимолётно, в подавляющем большинстве случаев оно есть случайность, так откажись же от неё, и ничто тогда не будет беспокоить тебя, а разве отсутствие несчастий уже не есть счастье? Все хотят быть счастливыми, но все ищут счастье там, где его нет и быть не может. Только отказавшись от источника несчастий, можно не иметь их. Как можно высохнуть, стоя под водопадом?
А эти… Ну где они ищут себя, ищут счастье? Наивные; верят ещё в жизнь, верят сказочкам…
Сколько же там времени? Ага. Ну всё, полежал немного, отдохнул, хватит; надо браться за работу. Какой смысл думать о тех, кто уже обречён? Они же всё равно, если они понимающие люди, а они, я думаю, таковыми и являются, рано или поздно придут к таким же выводам; главное, чтобы не было слишком поздно».
1.03.03 11:48 – 11:58
– …я с вами категорически не согласен.
– Но, Пётр Дмитриевич, разве гуманизм не строится на христианстве?
– Всё христианство, а в частности схоластика, совершено афилантропичны. Именно в уходе от такого понимания Человека и заключается смысл Возрождения.
– Ну, я бы не сказал…
– Особенно, что касается женщин.
– Да это ни один философ не любил женщин.
– Да, Владимир Николаевич, но не любить тоже можно по-разному; можно не любить, но считать их равными, а можно, что-нибудь вроде «Лучше несправедливость мужчины, чем женщина, творящая добро».
– Так раньше было принято, в этом нет ничего…
– Если это было актуально и имело смысл раньше, то почему и сейчас мы должны придерживаться того же? Да и вообще, вся эта христианская мораль и система ценностей устарели ещё лет триста-четыреста тому назад.
– Пётр Дмитриевич, истина не стареет.
– Это истина, а это бог.
– Владимир Николаевич…
– Да и вообще, речь сейчас не о том, я просто хочу сказать, что христианство в своей сути проповедует любовь и терпимость, а вы говорите – оно не филантропично.
– Смешно.
– Нет уж, извольте…
– Что не говорите, Константин Станиславович, а они всё-таки правы. В христианстве филантропии ещё меньше, чем в индивидуализме; индивидуализм признаёт хотя бы одного человека– себя, христианство же не признаёт никакого.
– Но Виталий Андреевич…
– Это только человек несведущий может думать, что бог– филантроп, на самом же деле всё христианство строится на человеконенавистничестве.
– А Человека надо любить, если и сам хочешь быть Человеком.
– Как раз таки наоборот, что бы быть человеком, надо относиться ко всем не иначе, как к средствам.
– Но, Владимир Николаевич, вы же и сами далеко не так относитесь к Людям.
– Почему же? Отношусь.
– Вы слишком добры, чтобы так…
– Машину тоже можно холить и лелеять, но от этого она не станет равной тебе, она всё равно будет средством.
– Вообще-то, чтобы быть собой, надо вообще отказаться от подобных средств.
– Об этом мы уже говорили.
– Да, но вы так и не опровергли мою точку зрения.
– Да, не опровергли, но «заступить» всё равно ещё не значит прийти к себе.
– Не значит, но, тем не менее, это есть необходимая составляющая для обретения своей самости.
– Да и вообще, что значит «обрести себя»? Что такое «Я»? Я есть совокупность всего, что Я собой представляю, а не некий абстрактный образ или дух.
– Этак все одинаковы или скоро будут одинаковы, ввиду всеобщего «кучкования».
– Это вы Эриха Фромма обчитались.
– Скорее уж Хайдеггера.
– В принципе, это характерно для всех мыслящих Людей первой трети двадцатого века– боязнь за конкретную личность, страх перед разрастающейся массовостью. И Фромм, и Хайдеггер, и Кафка, а особенно Ортега-и-Гассет, все они в этом плане очень близки. Такой образ мысли лишь вполне естественная ответная реакция на процесс «восстания масс».
– Да, Пётр Дмитриевич, страх перед людьми естественен.
– Константин Станиславович, не перед людьми как таковыми, а перед их количеством.
– Разница в том, что люди– это совокупность конкретных присутствий, а под количеством, прежде всего, понимается такой феномен, как толпа, то есть нечто обобщённое, недифференцируемое в познании и наблюдении.
– Не вижу ничего страшного в толпе; разве толпа не состоит из «Человеков»?
– Этим-то она и страшна.
– Толпа сплачивает, делает Людей эмоционально, а значит и духовно, ближе.
– Вот в этой «близости» человек и лишается своего «Я», обращаясь в некую человеко-самость, которая…
– Толпа– это, прежде всего, совокупность Людей. Среди Людей наоборот забываешь свои проблемы, ибо чувствуешь единение, счастье. Все равны и…
– Ах да, вы же ещё и коммунист.
– Да, я коммунист и не вижу в этом ничего плохого.
– Николай второй тоже не видел.
– Не будем переходить к частностям.
– Хорошо, хорошо.
– Коммунизм– это…
– Бакунин по этому поводу как-то сказал: «Коммунизм– это… насилием сплочённое стадо животных».
– В корне не согласен. Коммунизм– это равенство, братство, счастливая и простая жизнь, в конце концов.
– Коммунизм– утопия.
– И что же, по-вашему, не утопия?
– А как вы думаете?
– Анархия?
– Совершенно верно.
– «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога»
– Константин Станиславович, это самое страшное, что я когда-либо слышал.
– Анархия аморальна, бесЧеловечна…
– Вот именно, никакой власти, никаких рамок, настоящая свобода, настоящая борьба.
– Коммунизм– вот свобода, вот где Человек действительно может отречься от примитивных каждодневных проблем и обратиться к себе.
– Коммунизм недостижим. Коммунизм строится, прежде всего, на равенстве, которое подразумевает любовь людей друг к другу, а мы уже говорили о духе, эгоизме, цели жизни и счастье, и все сделанные выводы говорят против коммунизма.
– Я что-то таких выводов не припомню.
– У вас короткая память.
– Ладно. Но как будто анархия достижима.
– А почему нет? Отменить государства и государственность, и свободные ассоциации образуются сами собой.
– Государство уже изначально заложено в нас, его не отменить.
– Виталий Андреевич, государство нам навязано. Может быть, мы к нему и привыкли, но в основе нашего «Я» его нет и быть не может.
– Среди людей человеку свойственна тяга к рабству. «Немногих удерживает рабство, большинство за своё рабство держится», и именно поэтому, чтобы обрести свою самость, надо отказаться от людей и уйти в самого себя.
– Зачем же такие жестокости? Чтобы обрести самого себя, надо всего лишь уничтожить государство и наплевать на мораль.
– Скажите ещё – на Бога.
– Да на него давно уже наплёвано.
– Это вы…
– Виталий Андреевич верно говорит, от власти нельзя отказаться, поэтому и нужна централизованная власть, но в то же время и власть всех. Чтобы не было расхлябанности– партия, чтобы не было тоталитаризма– народ.
– Партия здесь лишняя.
– А иначе о Человеке просто некому будет заботиться, и он снова будет вынужден возвратиться к своим насущным проблемам.
– В том-то всё и дело, что при коммунизме за Меня решают все, кроме Меня: партия, люди, Я же– ничто.
– Человек– всё, на Нём всё строится.
– Но это уже не настоящая личность, а некое усреднённое сознание всех прочих. Вот при анархии каждый действительно есть личность, только от самого человека, конкретного и неповторимого, зависит его жизнь, его счастье, его судьба. Здесь он и дьявол, и бог, и…
– Но при коммунизме личность…
– Бакунин по этому поводу…
– Господа, господа, вы так противопоставляете анархию и коммунизм, Маркса и Бакунина, что становится даже смешно.
– Ну не мешать же их в одну кучу?
– Владимир Николаевич, а в чём разница?
– Ничего себе, в чём!
– Разница лишь в атрибутике, в надстройке. Основа та же.
– По-вашему, анархия имеет централизованную власть, и народ решает всё?
– А разве не так? Анархия по определению «безвластие», и это у Бакунина безвластие? А свободные ассоциации разве никем не управляются? Разве они не власть? Разве их союзы не власть? Те же государства, только помельче. Те же законы, суды, приговоры, мораль… Бакунин о такой анархии, как у вас, никогда не говорил, неправильно вы всё понимаете.
– Вы…
– А если рассматривать с такой точки зрения… Разве ассоциации независимы? Союз ассоциаций может исключить или не принять ассоциацию с аморальными нормами, противоречащими их собственным, и это разве «безвластие»?
– Это…
– Каждый человек– это всё; для него нет никаких правил, он абсолютно свободен и в то же время: «Уважать свободу ближнего – есть обязанность». Независимость всех и каждого? Да, действительно «Никто не вправе…», но в тоже время дети воспитываются обществом, люди должны заботиться о старших, наследство делится… И это независимость? Это ли «Всё дозволено»? ассоциации определяют всю твою жизнь: воспитывают, задают моральные рамки, распоряжаются наследством… Так где же здесь безвластие? И чем тогда уж анархия отличается от коммунизма? Это называется: «Найди десять отличий», я же, наверное, и пяти не найду.
– Но это же анархия…
– Странная у вас какая-то «анархия».
– Но ведь всё равно коммунизм и анархия – разные вещи.
– Да? Экзистенциализм и скептицизм – тоже разные вещи, а вы…
– У них основа одна.
– Да где ж там?.. Между прочим, в коммунизме и анархии основы ещё более общие, вы бы повнимательнее почитали Кропоткина…
– Да это…
– Так что не стоит вам так рьяно спорить по этому поводу. Всё равно в любом обществе человек не сможет обрести себя, ибо только наедине с собой это становится хоть более или менее достижимым.
– Вы не правы.
– Да, не правы.
– Боюсь вас расстраивать, но здесь Виталий Андреевич абсолютно прав.
– Константин Станиславович, как будто…
– В обществе, среди людей «Любой раб волен распоряжаться твоей жизнью и смертью», и лишь отказавшись…
– «Ты есть собственное творение».
– Человек на девяносто процентов есть творение других, и чтобы как раз-таки отбросить эти чудовищные проценты…
– Не, ну анархия и коммунизм– это вы как-то…
– Я вижу, вы задумались.
– Нет, на мой взгляд, только при анархии человек может проявить себя и жить. «Надо иметь необходимость быть сильным, иначе им не будешь никогда». Человек, отрекшийся от «жизни»– уже не человек, а при коммунизме, так и вовсе обычный скот.
– При коммунизме Люди равны, они…
– Но вы…
– Говорите вы, говорите, но это всё настолько далеко от истины, что любые ошибки здесь несравнимо малы, относительно главной. Главная же ваша ошибка в том, что вы все не признаёте великого значения Бога, души, откровения. Что значит обрести себя? Прежде всего,– познать свою душу, а она познается только через Бога, ибо душа Божественна, и по-другому её познать никак нельзя. Если же вы отрицаете Бога, вы отрицаете и душу, а следовательно, и её познаваемость, то есть обретение себя. Потому и противоречий у вас столько, что нет фундамента. А фундамент есть Бог.
– Бог? Бог, религия, наоборот перенацеливают Человека с самого себя на нечто большее, но…
– «То, что для меня свято– уже не моё собственное».
– …совершенно бессодержательное…
– Только думая о себе и можно понять себя, а чтобы думать, надо задать рамки, суть рождение и смерть и уйти от прочих проблем: от озабочения миром и бытия-среди-людей, и…
– Почему же у вас столько противоречий? Бог нас создал, а следовательно, только через Него и возможно осознать созданное, то есть себя.
– Не надо…
– Я не…
1.03.03 16:52 – 16:57
«Вот уж странный человек, этот Виталий Андреевич; судит о том, о чём и представления-то не имеет. Ну какой из него анархист или коммунист? Он же об этом, наверное, никогда и не задумывался-то. Ну читал он, конечно, но ведь прочесть ещё не значит понять. Коммунизм и анархизм– одно и то же, следовательно, гуманизм и индивидуализм синонимы. Ну ничего себе сравненьице! Как так можно? При анархизме главное– свобода, при коммунизме– равенство и уж как следствие «свобода». Свободные не могут быть равными, если только не считать того, что они равны в свободе выбора, но ведь именно выбор и обуславливает неравенство.
Бакунин… Его послушать, так Бакунин вообще едва ли не коммунист. Хотя… Конечно, Бакунин, по идее, скорее гуманист, чем индивидуалист, если противопоставить, в определённых рамках конечно же, эти понятия. Вот в чём основное отличие гуманизма от индивидуализма? В гуманизме человек подразумевается изначально добрым, в индивидуализме– по сути своей он зол и жесток. Да, тогда получается, что Бакунин действительно скорее гуманист, чем индивидуалист; его анархия строится, прежде всего, на уважении друг к другу, вернее на уважении к свободе другого, которую Я просто не имею права нарушить, или точнее нет, имею в принципе, но совесть не позволит. Да, такое общество возможно только при признании человека светлым существом, ибо какой «индивидуалистичный» человек просто так отдаст своё наследство, своих детей или хотя бы даже будет уважать свои средства.
Анархия Бакунина и коммунизм… В чём разница? Совсем Я что-то запутался; вот Виталий Андреевич… вообще-то да, если считать основой анархии гуманизм, то между коммунизмом и анархией действительно больше сходств, чем различий. Да, Бакунина Я читал очень давно и, видимо, не очень-то в нём разобрался. Стыдно. И ассоциации Бакунина… Ассоциация может приговорить, убить человека, хотя бы даже исходя из этого, выходит, что ассоциация выше человека, она имеет над ним власть, ну и в чём тогда особое отличие государства и ассоциации? В размерах? Если рассматривать этот вопрос только с точки зрения политологии, то да. Так где же анархия? Да уж, как-то я не особо задумывался по этому поводу; нехорошо. Ну что ж, получается, Бакунин был не прав, Я теперь с ним не согласен, но, впрочем, это и не принципиально; моя система от этого не страдает.
Вот что такое настоящая анархия? Все не могут быть независимыми, это ежу понятно, значит, чтобы выжить, надо объединяться в группы, суть ассоциации; ассоциации опять же, чтобы выжить, могут заключать союзы. Человек же входящий в ассоциацию должен подчиняться её правилам, в противном случае его могут прогнать или убить: ассоциация сильнее человека, а значит, имеет на это полное право. Но если человек окажется сильнее ассоциации, сильнее всех в этой ассоциации, он сам может уничтожить её или подчинить всех себе, на это он тоже имеет полное право. В этом и заключается суть анархии: никакого наказания, если ты сильнее; что хочешь, то и делай, если хватит сил; никто не может наказать тебя кроме самого человека, и то, если только он окажется сильнее тебя; «Сила выше права с полным на это правом». Ну и в чём тогда особое отличие от Бакунина? У Бакунина ты должен уважать свободу другого и заботиться о старых, здесь же ты вовсе не обязан этого делать, но если хочешь выжить– изволь, и если сил не хватает не делать– тоже изволь. Если же ты окажешься сильнее, с тебя спадают всякие обязательства, и уже ты сам будешь назначать себе цену. Хотя с другой стороны… Это только по проявлениям слегка смахивает на Бакунина, по сути же ничего общего. Категорические различия.
Но ведь вот она анархия: когда Я– это всё, когда всё зависит только от Меня… Только так Я могу жить в согласии с самим собой. Вот где человек обретает самого себя и живёт настоящей жизнью, не сдерживаемой моралью, правом или государством. А Бакунин… Не то он, конечно, говорил, не то. Ну и ладно, Мне-то что? Хотя… А у Меня «анархия»? Эта категория ведь во все времена понималась именно так, как у Бакунина, а Я… Какой же я тогда получается анархист? Я так, непонятно что, Я…
Вот Виталий Андреевич! Совсем сбил с пути истинного. Ну да ничего страшного. Или… Нет, ничего…»
12.03.03 13:41 – 13:53
– …так что сдерживающим фактором всегда, по сути дела, является совесть, мораль.
– Совесть– это «внутренний прокурор», она не может сдерживать, это чувство лишь наказывает за совершённое или задуманное, сдерживает же не совесть, как таковая, а «Сверх-Я».
– В данном вопросе это не принципиально, в любом случае совесть, «Сверх-Я»– это нечто чужеродное, хоть и хорошо въевшееся в психику.







