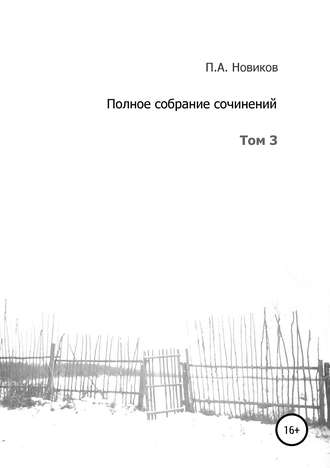 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 3
Выше было сказано, что человек даже не имея достаточно сильных образов согласующихся с целью, всё-таки живёт в состоянии небольшого удовольствия. Так вот и его исток. Это, по большей части, именно чувственное удовольствие, потому что в моём подсознании всё в норме; всё на своих привычных местах. И само собой, что согласованность – это обычное состояние, в то время как разбаланс – это нечто нетипичное; то, что психика пытается как можно быстрее устранить. Потому человек и живёт большую часть жизни (а особенно начиная лет с 25 – 30, когда ВКС успокаивается) с чувством пусть и небольшого, но удовольствия, ибо согласованность – она наличествует почти всегда.
б) Образное удовольствие. Определяется взаимодействием «Сверх – Я» (читай, ВКС и ВКП) с сознанием и с миром, т.е., взаимодействие образов «Сверх – Я» с остальными образами. Тем самым, удовольствие здесь – это наличие соответствия между образами (целями) «Сверх – Я», мысленными образами и образами «реального мира». Причем, образы реального мира – это скорее условность; в конечном счёте, это всё равно образы сознания. Деление здесь по тому критерию, была ли причина этих образов действительно, или это только «домыслы», исток которым исключительно в мыслительной деятельности. Такое понятие я ввел лишь для лучшего понимания этих взаимодействий, в действительности же, конечно, эти образы так же мыслительные, хотя и специфические (в виду их неизбежности: мир я воспринимаю в любом случае, хочу я этого или не хочу), в отношении от остальных образов. Отсюда, кстати, проистекает то, что образы реального мира – это только образы настоящего (как бы оно ни было условно). Это то, что мы сейчас видим, слышим, понимаем… Если такие образы вспоминаются или представляются, то это уже мысленные образы, образы сознания.
Что касается мыслительных процессов, то в них самих как таковых, не может быть ни удовольствия, ни неудовольствия, так как, по определению, мышление само по себе оперирует только образами. Конечно, заявлять сейчас «по определению» ещё рано, т.к. самого этого определения пока не было, а потому примите вышесказанное (сейчас) как a priori, или для разъяснений обратитесь к главе «Сознание как таковое». Безусловно, даже мысленно можно и «создать» себе настроение, и, наоборот, «расстроить» себя, но тем не менее, здесь удовольствие/неудовольствие вторичного (обычно) подсознания, для которого мыслительные образы выступают лишь стимулом. В то же время, подсознанию безразлично, какие именно образы на него воздействуют, «реального мира» или мысленного: подсознание их не различает, главное, какие они несут чувства, ибо подсознание оперирует чувствами, а не образами. Впрочем, то удовольствие, о котором говорилось в двух предыдущих главах, и было то самое «образное» удовольствие. Следовательно, сказано было уже достаточно и пора бы уже остановиться.
Следует так же разъяснить сказанное мною в начале этой главы о независимости этих видов удовольствия. Очевидность: я могу быть сыт, и находится в безопасности, так с организмом все будет в порядке, т.е. первые два вида удовольствия будут наличествовать, однако при этом меня может мучить какая-нибудь проблема, что говорит о неудовольствии во вторичном подсознании. Или я могу быть полностью доволен своей жизнью, т.е., будет «вторичное» удовольствие, однако, например, утром я плохо позавтракал (ощущаю голод), и в физиологической части будет уже неудовольствие. И т.д. Налицо независимость отдельных видов удовольствия, хотя и относительное, т.к. все части подсознания все же не изолированы друг от друга, а потому в любом случае будут оказывать то или иное воздействие друг на друга. А особенно взаимодействие первичного и вторичного подсознания, которые и разделить-то трудно. Так, удовольствие во вторичном подсознании в немалой степени обуславливает наличие удовольствия и в первичном. Связано это с взаимодействием первичного и вторичного подсознания (идентичность механизмов, воздействий). Так же удовольствие первичного подсознания влияет и на удовольствие во вторичном, правда уже в значительно меньшей степени (а порою такое влияние и вовсе не чувствуется), т.к. вторичное подсознание для человека более важная и, соответственно, более «чувствуемая» структура.
Кстати сказать, в дальнейшем я буду рассматривать и подразумевать (по умолчанию) только третий вид удовольствия (удовольствие вторичного подсознания, при чём образное). Основных причин две: 1) Прочие виды удовольствия относительно просты и 2) Целью данной работы является разбор психики присущий только человеку (а принципиальная особенность человека – это только вторичное подсознание), а потому, остальные два вида удовольствия, в подавляющем большинстве случаев, мне не очень интересны.
Уровень удовольствия
В виду того, что удовольствие вторичного подсознания (в дальнейшем, по умолчанию, просто удовольствие) скрывает в себе дуализм (образное и чувственное удовольствие), то рассматриваться эти виды удовольствия будут отдельно, с дальнейшим объяснением их взаимодействия.
1) Чувственное удовольствие. Разумеется, нормальные уровни ВКП и ВКС у разных людей различны. Один обдумывает каждое действие и не решаются сделать хоть сколь-нибудь серьёзный шаг; он довольствуется тем, что имеет. Другой не может усидеть на месте, постоянно к чему-то стремится, не смотря ни на что, при достижении цели не останавливается и ставит себе всё новые и новые. Т.е. уровни воздействия ВКП и ВКС не одинаковы, всегда чего-то больше, а чего-то меньше. При чём, эта склонность к той или иной воле может быть как врожденной, так и приобретенной.
О врожденности говорят множество фактов, например человек, родившейся в богатой семье и имеющий всё, которого соответствующим образом воспитывали, тем не менее, может уйти из семьи, чтобы достичь своего; или человек, воспитывавшейся всю жизнь на улице, с ее жесткими законами, тем не менее, будет мягок, высокоморален и, может быть, даже «праведен». Здесь высокий врожденный уровень ВКС в первом случае, и высокий уровень ВКП во втором. Приобретенная составляющая уровня еще более очевидна: если мне с детства будут трунить, что я ничтожество и если еще это будет подкрепляться множеством неудач, ВКП, наверняка, со временем все более и более будет доминировать над ВКС. И наоборот, если у меня всегда все получалось, разумеется, что ВКС будет доминировать над ВКП. Теперь, после этого небольшого отступления-разъяснения уровней ВКП и ВКС, обратимся непосредственно к удовольствию.
Итак, чувственное удовольствие – это наличие присущего индивиду равновесия между ВКС и ВКП. Как уже было отмечено, уровни нормального ВКП и ВКС весьма различны, отсюда для одного счастье – это постоянные удачи, достижение целей, «чувствование» своей власти, и для такого индивида, грубо говоря, даже, если он просто споткнется, это уже будет несчастье. Если можно так сказать, у него слишком большие требования, высокий уровень удовольствия. В принципе, такого типа люди – подавляющее большинство в западных странах. Именно поэтому при малейших неудачах в жизни, у них случаются депрессии, стрессы, нервные срывы, и они то и дело посещают по этому поводу психологов и психоаналитиков. Здесь налицо высокий уровень ВКС, отсюда уверенность в себе, отсутствие страха перед будущим и, как следствие, неготовность к неприятностям. В жизни такие люди обычно общительны, уверены в себе, оптимистичны, веселы (если отсутствует склонность к садистским целям).
В противовес этому, при нормально высоком уровне ВКП и низком ВКС, мы наблюдаем индивидов с нормой в мазохистском счастье. Такие люди готовы к неудачам и постоянно их ждут, они плохо относятся к самим себе и считают себя ничтожествами, неудачниками и т.д. При удаче или в случае удачного продвижения к цели, они, наоборот, стремятся заглушить удовольствие, говоря, что «Эти удачи неспроста, что-нибудь произойдет» или «Перед бурей всегда затишье, надо приготовиться». В обыденном понимании, они не способны быть счастливыми; для них отсутствие всякой веры в себя, принижение себя в мыслях и/или в действиях – естественное, счастливое состояние. Для них удовольствие в обыденном понимании – неудовольствие, так как при «обычном» (т.е. среднестатистическом) удовольствии уровень ВКС для них слишком высок, что для них является неприятным. Именно низким уровнем ВКС, кстати сказать, и высоким ВКП, как правило, объясняется мазохистское счастье.
Однако, может возникнуть то недоразумение, что каким образом ВКП, направленное по определению к покою, стремящееся снизить риск и напряжение в психике, вызывает депрессии и такой уровень удовольствия; это ведь противоречит самой направленности ВКП. Но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Воля сама по себе слепа и не может остановиться при достижении своей цели, если не будет подавления со стороны прочих структурных элементов психики. Это как в природе: популяция будет увеличиваться до тех пор, пока будет хоть какая-то пища и сдерживаться рост численности будет именно объёмом еды, а не саморегуляцией. Если же создать условия, при которых пища никогда бы ни кончалась, то популяция будет увеличиваться до бесконечности. Так же и здесь. Таким образом, если при неудачах уровень ВКС слишком мал, ВКП продолжает влиять на психику индивида, стремясь, все так же обезопасить его, заставляет оставаться на месте, дабы не подвергаться риску. Мышление интерпретирует эту волю, цель этой воли, как неспособность действовать или невезучесть и далее, оно (мышление) уже само увеличивает уровень ВКП, от чего ВКС подавляется еще больше, и индивид со временем перестает верить в свои способности и мысленно признает себя ничтожеством. Т.е. путь такой: ВКП заставляет оставаться на месте; это стояние на месте, в конечном счёте, интерпретируется сознанием как неспособность действовать. Отсюда опасение перед действием, т.е. опять же повышение уровня ВКП. Но и ВКС жаждет своего. Появляется разлад между ВКС и ВКП, который приносит неудовольствие. В то же время, ВКП упорно диктует своё: не надо действовать. Сознание интерпретирует… ВКП снова повышается… ВКС опять не нравится… И ещё большее неудовольствие. Со временем такое положение дел укрепляется и становится привычным, нормальным. Постоянное неудовольствие (хотя, конечно, небольшое) становится нормой и это состояние человек, естественно, всячески стремится удержать, принижая себя, заставляя не радоваться удачам и т.п. В дальнейшем, при удачах, эти мысли подавляют ВКС и поддерживают уровень ВКП. А отсутствие веры в себя (болезненное), к сведению сказать, по сути и есть депрессия, которая, если она затяжная, приводит к хроническому увеличению уровня ВКП и низкому ВКС: отсюда счастье индивида становится мазохистским, со всеми вытекающими отсюда выводами.
Да, здесь рассмотрены крайности; абсолютное большинство людей имеет более или менее «средний» уровень. Ненормальная активность, самоуничижение – это относительно редкость. Но это уже частности, которые нам не интересны. В свою очередь, из этих примеров, я думаю, понятие уровня чувственного счастья становится вполне проясненным. Переходим к следующему удовольствию.
2) Образное удовольствиее. Как уже было сказано, этот уровень удовольствия заключается в соответствии целей «Сверх – Я» (т.е. целей ВКП и ВКС) реальному миру и мыслительными образами. При этом к мыслительным образам (те образы, которые «мыслятся» в данный момент) я отношу и образы памяти (если такое деление вообще допустимо). Это связано с тем, что сами по себе образы памяти не воздействуют на подсознание, воздействуя всегда через мышление. А так как мыслительные образы – это те же образы памяти, только находящиеся в данный момент в мышлении, то это понятие «образы памяти» я употреблять не буду, однако всегда имея их в виду как основу всяких мыслительных операций.
Как видно, соответствие здесь должно быть двоякое: 1) между «Сверх – Я» и действительностью, и 2) между «Сверх – Я» и образами сознания. И это разные вещи, ибо, например, если даже действительность соответствует целям «Сверх – Я», мысленно я могу «понапридумывать всяких гадостей», несоответствующих реальным (как то: вспомнить прошлое, представить будущее, занизить значимость достижения цели и т.д.). В таком случае, во второй составляющей будет уже несоответствие и удовольствия не будет.
Теперь, о каком уровне идет речь. Понимание уровня удовольствия заложено в самом определении: «это соответствие…», однако, очевидно, что мой образ никогда не будет на все сто процентов соответствовать реальности, хотя бы по той простой причине, что образ «неопределён», он расплывчат, а потому полного соответствия не может быть в принципе (исключение – цели связанные с простым количеством). Вот это допустимое различие между целью (как образом) и реальностью, и является уровнем удовольствия. Т.е. уровень здесь – это та величина соответствия цели реальности, по достижению которой чувствуется удовольствие. Само собой, и этот уровень для каждого индивидуален. Примере просты: один сделает «тяп-ляп» и уже будет этим доволен (сделал же); другой, пока не сделает все в лучшем виде – не успокоится и доволен не будет, хотя у них и стоят одинаковые цели – «хорошо сделать». Может показаться, что разница здесь в этом различии понимания «хорошо», однако, это не так. Тот первый человек может понимать, что он сделал «так себе», но, тем не менее, он доволен, что и говорит о низком уровне соответствия цели реальности необходимого для получения удовольствия. В этом необходимом для получения удовольствия уровне счастья (образно говоря, на 10% образ цели должен соответствовать реальности, чтобы человек был доволен, или на 90%) и заключается уровень образного счастья. Конечно, никакой чёткой границы нет: 5% – небольшое удовлетворение; 15% – удовольствие выше крыши, или для другого, какие-нибудь 70 и 95%. Хотя и расплывчато, но этот переход существует.
Что касаемо ««Сверх – Я» – мышление», то здесь, в принципе, то же самое. Как мыслительные образы влияют на цель «Сверх – Я»: должно ли быть едва ли ни полное соответствие мыслительных образов образам «Сверх – Я», или просто не должно быть резкого противоречия.
Замечу, что не следует путать с воздействием мыслительных образов на подсознание в виде ВКП и ВКС, то есть воздействие отвлеченными образами с целью снижения или повышения настроения; эта цепочка уже другая: мышление ВКП/ВКС «Сверх – Я» мышление = / «Сверх – Я», в отличии от разбираемой: мышление = / «Сверх – Я».
По нормальному уровню достижения образного удовольствия можно судить и об уровнях ВКП и ВКС. Если «образный уровень» мал, это говорит о низком уровне ВКС и высоком ВКП, т.к. уже при небольшом соответствии цели реальности, человек успокаивается, что и означает относительно (ВКС) высокое воздействие ВКП. И наоборот, если человек будет делать что-то до тех пор, пока всё не станет в точности, как он хотел, не смотря на то, что можно было бы уже и остановиться (ибо, в общем-то, цель достигнута), то это говорит о высоком уровне ВКС и относительно низком ВКП. Хотя и здесь возможна некоторая непоследовательность, связанная, прежде всего, с сознанием и с ленью. Впрочем, это уже или опосредованное воздействие, или вообще не психика, а физиология.
Абсолютное счастье и удовольствие
В этой главе я всего лишь обозначу, что есть абсолютное счастье и удовольствие. Как их достичь – об этом ниже. Пока речь пойдёт о взаимодействии удовольствий/неудовольствий различных структур психики. А абсолютное счастье и удовольствие – это можно понять только через взаимодействие.
Как уже было сказано, счастье – это достаточно устойчивое состояние. По сути, это тоже удовольствие, только длящееся относительно много времени. Удовольствие можно испытывать секунды, минуты, может быть часы, но даже о днях здесь говорить не приходится. Отсюда, удовольствие, в общем-то, не так уж и трудно достичь. Однако со счастьем куда сложнее. Испытывать удовольствие дни, месяцы, годы… В такое с трудом верится. Хотя теоретически такое и возможно.
Итак, счастье. Как вы сами понимаете, достичь счастья (речь пока только о счастье вторичного подсознания) в современном мире достаточно сложно; почему так, будет рассмотрено чуть позже. Еще более трудно достичь абсолютного счастья, под которым я понимаю наличие счастья во всех подсознательных системах. Следует понимать, что счастье/несчастье – это более или менее стабильные состояния. Тем самым условий абсолютного счастья должно быть множество: отсутствие неприятных ощущений, отсутствие опасности для жизни и здоровья (так же и потенциальных), отсутствие неприятных воспоминаний (или хотя бы их непроявляемость), «согласие» между ВКП и ВКС, «приятный» окружающий мир и т.д. и т.д. Этого достичь очень сложно, т.к. к этому, помимо прочего, должна способствовать и окружающая среда человека, что в обществе практически вообще недостижимо, а жить вне общества, да еще и счастливо – на это способны, я думаю, единицы (хотя и нельзя сказать, что такое вообще невозможно).
Немного иначе обстоит дело с абсолютным удовольствием, которое заключает в себе наличие недолговременного удовольствия во всех подсознательных системах, что, в общем-то, происходит довольно часто. Допустим, я что-то сделал, пришел домой, поел и лег полежать – вот уже абсолютное удовольствие. Однако, как и любое удовольствие, абсолютное длится недолго; от секунд, до, максимум, нескольких часов. К слову сказать, те же самые размышления, по аналогии, относятся и к абсолютному несчастью, и абсолютному неудовольствию.
Говоря о взаимодействии удовольствий важно учитывать вышестоящее положение эволюционно более молодой системы подсознания над более старой, что впрочем, конечно, не всегда соблюдается, хотя и в основном так. Например, ВКС может «побороть» даже инстинкт самосохранения первичного подсознания (тот же суицид). В свою очередь, инстинкт самосохранения может бороть неприятные ощущения (к примеру, хищник, притаившийся в засаде, у которого, от долгого «нешевеления», наверняка присутствуют неприятные ощущения, но инстинкт самосохранения их глушит, заставляя поджидать добычу). В экстремальных же ситуациях может быть и наоборот. К примеру, инстинкт самосохранения (первичного подсознания) может обрывать любые стремления ВКС и ВКП, если появляется опасность, как бы сильны они не были. Но тем не менее, голос вторичного подсознания для человека, в большинстве случаев (не считая внезапных ситуаций, когда ВКП и ВКС даже «сообразить» не успевают) звучит всегда громче, чем голос подсознания первичного.
Впрочем, силой воли, при определенном желании и тренировке, первичное подсознание может глушиться до такой степени, что даже неудовольствие в нем будет чувствоваться крайне мало, или, в некоторых моментах, не чувствоваться вовсе. Т.е. неудовольствие в первичном подсознании и в физиологии может не чувствоваться в случае большого удовольствия во вторичном подсознании. Например, при неожиданной приятной встрече: в этот момент, я вряд ли буду ощущать неудовольствие от голода или обращать внимание, угрожает ли мне опасность или нет. И наоборот, если меня мучат какие-то проблемы социального плана, вряд ли я буду испытывать огромное удовольствие от тог, что я сейчас сыт, одет и обут; т.е. первичное подсознание, в подавляющем большинстве случаев, вторичное заглушить не в силах.
Следует так же помнить о взаимодействиях, в частности, между первичным и вторичным подсознанием. Здесь очень сильная зависимость. И если у меня полнейший разлад в первичном подсознании, весьма проблематично сохранить равновесие в подсознании вторичном. Для этого, либо вторичное подсознание должно очень сильно доминировать над первичным, либо равновесие должно быть столь сильно, что влияние первичного подсознания можно проигнорировать. Наоборот же (т.е. когда разбаланс во вторичном подсознании влияет на равновесие в первичном), очевидно, влияние куда сильнее. Эта «неравносильность» удовольствий (влияние баланса или разбаланса) весьма существенна для анализа взаимодействий удовольствий различных структур и, в частности, для понимания абсолютного удовольствия или счастья.
Достижимость счастья
Речь будет идти о достижимости счастья во вторичном подсознании, впрочем, по аналогии, все нижеизложенное, с определёнными «додумываниями», можно перенести и на «первичное счастье». Нельзя не отметить и то, что счастье (а равно и удовольствие) понимается здесь самым минимальным образом. Всего лишь, счастье – это не разлад. Конечно, когда просто нет разлада – это очень слабое счастье (удовольствие); такое, которое практически и не чувствуется, ибо для нормальной психики это обычное состояние. Это если говорить по поводу чувственного счастья. Если же иметь в виду счастье образное, то здесь минимум – это отсутствие тех или иных образов противоречащих целям. Т.е. тут счастье – это не обязательно наличие образов достижения цели; даже если нет вообще никаких образов – это (по минимуму) уже счастье.
Ранее было установлено, что счастье двояко: образное и чувственное, хотя они и находятся в тесной взаимосвязи друг с другом; причем, одно от другого, по сути, неотделимо. Но тем не менее, рассматриваться эти виды счастья будут отдельно, безусловно, с описанием их взаимовлияния. И начнём мы со счастья образного.
1. Образное счастье.
Было отмечено, что оно обусловлено взаимодействием действительность-«Сверх – Я» и сознание-«Сверх – Я». Сознание мы проигнорируем на том основании, что здесь всё тоже, что и с действительностью. Опять же, какая разница, каков исток образов: окружающий мир или память? Впрочем, если угодно, вставьте вместо слова «действительность» слово «сознание». По сути, в плане видов достижимости ничего от этого не изменится. Потому, здесь рассмотрено всего три вида (и ещё один чисто для интереса) достижения данного счастья. Или с сознанием – шесть (ну и не столь важные для анализа комбинации).
1) Действительность соответствует «Сверх – Я». Случай простой, и более того, уже достаточно описанный в позапрошлой главе, а потому здесь разбираться не будет. Отмечу лишь, что мир может соответствовать «Сверх – Я» лишь в том случае, если в самом «Сверх – Я» нет конфликта – взаимопротивоположных целей, что в свою очередь подразумевает отсутствие разлада между ВКП и ВКС.
2) «Сверх – Я» отсутствует. Т.е., у индивида отсутствует какие бы то ни было цели. В этом случае, разлада между «Сверх – Я» и миром так же не будет, по той простой причине, что между чем ему быть? Хотя это утверждение, что само по себе есть счастье, спорно и верно оно лишь в том случае, если простое отсутствие несчастья – это уже счастье. Впрочем, так ли это – решать каждому, доводы здесь приводить бесполезно, они не выдерживают критики (причем, ни с одной, ни с другой стороны). Действительно, отсутствие целей подразумевает отсутствие их определяющей основы – воли. Т.е. говоря обыденным языком, такого человека можно было бы назвать зомби, которому абсолютно всё равно, который ничего не хочет и который не имеет никакого своего стремления. Но настоящее счастье – это целокупность гордости и спокойствия, а их истоки – ВКС и ВКП. А если нет последних, то чувства счастья явно не будет. Но чисто формально мы всё же можем назвать такое состояние состоянием счастья.
3) Действительность отсутствует. Этакий человек без чувств (чувств в смысле обоняния, осязания, слуха…). Само по себе, отсутствие действительности счастья не несет, т.к., её отголоски всё равно остаются (воспоминания, в частности, о недостигнутых целях). В этом случае уже значительную роль играет сознание с его работой и его образами. Здесь, кстати, следует упомянуть о сознании отдельно. Если отсутствует действительность – это не обязательно счастье, но если отсутствует сознания – это «счастье» (такое же условное, как в прошлом случае) обязательно. Сознание – это то, что связывает «Сверх – Я» и действительность. Если нет сознания, то для «Сверх – Я» нет и действительности. Тогда разлада уж точно не будет.
Отсутствие сознания – это, конечно, совсем крайность. Но если сознание развито очень слабо… Посмотрите на таких людей и вы увидите, как им мало надо для счастья. И всё потому что у них не может быть сильного и длительного разлада: образов мало и они плохо удерживаются. А нет противоречащих образов, нет и несоответствия.
4) Действительность и «Сверх – Я» отсутствуют. Этот случай можно понимать двояка: как совокупность второго и третьего вида, и как… смерть. Ведь если человек умер, то, в частности, для него не будет ни действительности, ни «Сверх – Я». Первый вариант понимания ничего нового нам не скажет, а вот со вторым можно позабавиться. В смерти, как видим, разлада нет (да и где ему быть, если даже самой психики нет?), следовательно, смерть (не как процесс умирания, а как факт отсутствия психики в реальном мире) несет счастье. Но это, конечно, так, софизм. Если нет психики, это не значит, что просто нет разлада; это значит, что нет ничего и о разладе здесь говорить вообще бессмысленно.





