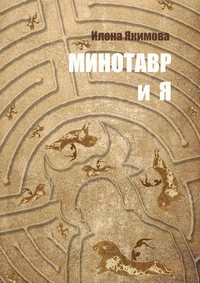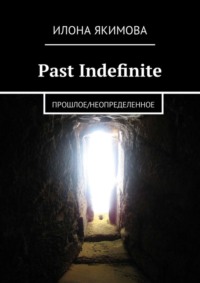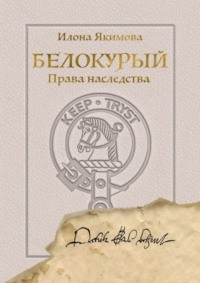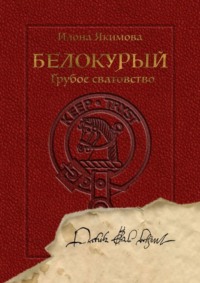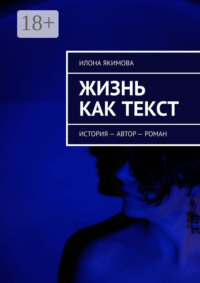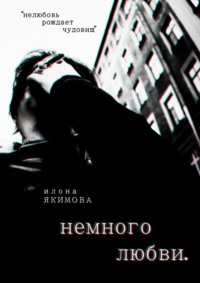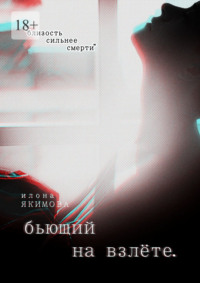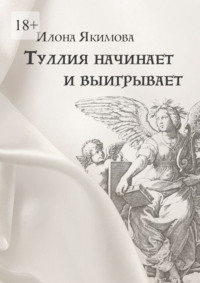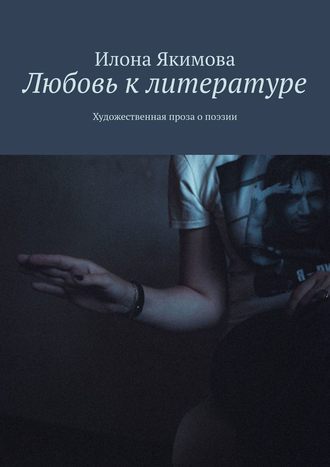
Полная версия
Любовь к литературе. Художественная проза о поэзии
Одиночество диагностировано.
Теперь обратимся к преследующей Ербола исконно русской поэтической хандре.
Кроме тоски, частыми гостями текстосновидений Ербола Жумагулова являются печаль, грусть, скука, боль… словом, дозы меланхолии вполне хватило бы на десяток эвтаназий. Так и возникает длительный прерывистый монолог, тема в котором порой важна вторично, а сиюминутно и горестно щемящее ощущение боли, но боли прошлой, а значит, могущей быть переработанной в произведение искусства. Зачастую, кажется мне, в этих стихах важней сам эмоциональный выплеск, а не наличие некоего содержания. В интуитивном излиянии сама блюза тема – это ничто, детали.
Теперь о деталях.
В поэзии нет ни новизны, ни широкого круга тем. Любовь, смерть, мерцающее где-то вдалеке ремесло – вот и все, собственно. Поэт, подобно забавной механической птичке, из любой ноты выведет именно эту трель. Исходная точка может быть различной – от разорванного шнурка до гибели империи, финал всюду будет один и тот же. Это не столько ущербность поэтической натуры, сколько видовые характеристики, закон жанра. Меня, впрочем, этот распорядок устраивает, однако те, кто, стартовав разорванными шнурками, волочась на них же, изрядно заезженных, и финишируют – мне до зевоты скучны.
Эпицентром поэтического миропорядка Ербола Жумагулова оказывается любовь (ну, и собственный гений – к чему бесполезно скромничать-то?). Любовь – в лучших традициях лирического жанра – не слишком счастлива. В одном случае мы наблюдаем на редкость нежную, но эпистолярную страсть, в другом (одна из пронзительнейших вещей автора) – искреннее до жестокости послание обращено к погибшей. Третий вариант любовной тематики, вкрапляющийся в первые два – мемориал мелочей, происходивших, пока любимая была рядом, скрупулезно перечисляющиеся осколки воспоминаний. Это опять-таки монолог, состоящий из недомолвок (от необходимости казаться сдержанным) и договариваний (поскольку сердцу-то не прикажешь). Чтение этих текстов вызывает странное ощущение, с одной стороны, сопричастности чему-то очень интимному (так и хочется отойти от замочной скважины, предоставив автора и его адресата самим себе), с другой стороны, в какой-то момент начинаешь здраво подозревать, что длящаяся глубокая меланхолия значительно более полна смысла для этих двоих, занятых друг дружкой, нежели для рядового читателя. Ловишь в сгущающемся «миртовом сумраке» совершенно смеркающегося кота, к финалу цикла забывая его начало, пока блюз доходит до высшей, бессодержательной, рыдающей ноты, как вдруг… продолжая метафору: впечатление такое, будто наш певец внезапно оборвал бесконечное feel in blue – lonesome – don’t you cry, откашлялся, сосредоточился и, в полной тишине и в эффектной позе, выдал ошеломленным слушателям нечто, некогда определенное незабвенным Бегемотом Булгакова, как «вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, сам Аристотель». И вот что конкретно я имею ввиду.
Стихотворение «Я простыл. Ты – в Германии…», на мой взгляд, до сих пор остается одним из сильнейших у Ербола Жумагулова.
В этой вещи достигнута простота и ясность весьма бытовой ситуации не в ущерб метафоричности языка – в каком смысле, предельное выражение стиля Жумагулова, по крайней мере, на первом витке его эволюции. Поражает зрелое мастерство композиции, построения сюжета. Последовательно, начиная со второй строфы, герой предлагает разнообразные варианты несложившегося прошлого, шаг за шагом новые, до того он недоволен сегодняшним случившимся днем. Впрочем, это даже не недовольство, это скорей ехидные измышления средства предупреждения насморка или, на крайний случай, сосуществования с ним. Простуда – некий обобщенный символ всего, что так не устраивает героя в повседневном мире: начиная от безденежья, заканчивая отсутствующей подругой. Так и следуем за нашим профессионально одиноким юношей цепочкой вероятностей: сорвись я на Кок-тюбе; езжай я вчера на дачу; простынь я позавчера – цепочкой, которая заканчивается, опять-таки, булгаковским трагическим финалом, блестящей репликой:
с великолепным хлестким снижением первоначальной патетичности сказанного
Ербол Жумагулов отчетливо знает закон финала и редко когда стихотворение завершается эмоционально безакцентной строкой. Данное стихотворение – некий микрокосм, элементами точно отразивший все основные приметы даже не стиля, но мироощущения Ербола Жумагулова.
Честность лирического героя, доходящая до бравирования своей обнаженностью:
Это характерная авторская интонация. Жумагулову привычно раздеть (иногда и не фигурально) своего героя и голеньким предъявить читателю: ну как, нравится? Не нравится? А такой уж он есть – я не виноват. Что в этой позиции от защитной отстраненности, что от эпатажа, разобрать трудно. Но в любом случае, Жумагулов сознательно дистанцируется от какой-либо морально-этической оценки своего героя, он сообщает факт, не привешивая к нему положительных или отрицательных табличек.
Блестящая и точная метафоричность авторского языка:
В три слова организуется картинка очень живого и достоверного пейзажа, который, во-первых, в своей простуде параллелен автору, во-вторых, зрим, почти плотски осязаем, теряя угрожающую мощь в таянии ледяных клыков, свисающих с крыш, воплощая старческую слабость зимы. Такие предельно энерго- и информационно емкие определения для Жумагулова не редкость.
Как смысловой центр текста выделяется следующая строфа:
Перечисление деталей, ставящее любимую в ряд с диваном и парой кресел, великолепно, но не оно привлекает взгляд. Во-первых, героем подразумевается, что указанные предметы могут иметь температуру, отличную от их нормальной, что они, так же, как он, могут болеть – эта одушевленность окружающего мира определенно является фактором поэтического сознания Ербола Жумагулова. Второе: стремление измерить температуру предметам быта, а не себе, есть следствие уверенности героя в том, что лично-то он в порядке, а болен весь внешний мир, вызывающий в нем лихорадочное отторжение, и болен этот прокаженный мир как раз тем, что препятствует влюбленным быть вместе. Предметы быта в добром здравии так бы себя не вели, не противодействовали единению. Таков второй фактор поэтического сознания автора: косность, неподатливость материального мира любви, с его точки зрения, есть болезнь. Он готов, при полной своей нормальности, декларировать ненормальность, нездоровье всего, его окружающего. А отсюда уже вытекает третье умозаключение для цитированной строфы: убежденность больного в своем здоровье и есть основной признак его болезни. Так возникает мощный художественный эффект расколотого сознания. Это настоящая лихорадка.
Возможно, сумма извлеченного мною из четырех строк значительно превышает объективный минимум, вложенный в эту строфу автором, но меня мало беспокоили бы обвинения в склонности к гиперанализу. Во-первых, это правда. Во-вторых, в разговоре о стихах гиперанализ – единственно правильный подход. Конструкция стихотворения —магическая конструкция, а капризы подсознания порой дают себя знать самым неожиданным образом. Автор может отнекиваться от произведенного эффекта, может утверждать, что определенным порядком расставил слова бездумно, из чистой иронии, для эпатажа, в приступе изобретения словесной головоломки – это все проблемы автора. Гомункулус уже шевелится в перегретом кубе, алхимия слова пошла в ход – и даже при полном внутреннем осознании автором ситуации, он никогда не сможет достоверно предопределить эффект внешний. В конечном итоге, важно не то, что автор хотел сказать – важно то, что сказал. Так, неким потусторонним прозрением, ему позволено попасть в точку слияния точной метафоры, яркого чувства, правдивой истории. Автор отдыхает, а дело читателя – удивляться и выслушивать путанные объяснения героя о том, как же оно все так произошло. Разумеется, сказанное верно лишь применимо к действительной, подлинной поэзии, в случае наличия у автора поэтического дара.
Вернемся, однако, к тексту.
Определив воспаленность окружающего мира, осознав свою болезнь:
истратив пару строф на декларацию умеренного цинизма:
(обращаю внимание на двойное «не», но об этом позже), герой пытается запустить генеральный прогон приезда любимой, поддержать физиологией метафизические игры воображения, и затевает театр в живых декорациях:
Ситуация суррогатной любви, что и говорить, не нова, обыденна, и не нашему герою, столь успешно убедившему публику в своей бесчувственности настоящего мачо, следовать традициям романтизма, умирая в любимой – он как будто твердо намерен жить. Сестра милосердия из публичного дома вполне тому способствует. И герою удается подкрепить свой психологический перфоманс достаточно реальными деталями, однако, в последний момент – не столько успокоения, сколько усталого отупения – тот самый воспаленный окружающий мир безжалостно отбрасывает прожженного циника от воображаемого к действительному.
Внезапно выясняется, что никакой физиологической подменой дела не исправишь, что мир по-прежнему мерзок и воспален, любимая по-прежнему далека, что лихорадка и не думает завершаться, что причина этой простуды на деле первобытна, глубока и наивна – вечная, смертельная любовь, которую он публично отрицал – из гордости, которая, тем не менее, поглощает его без остатка. Во всем своем полном, неотступном идиотизме представляется ему вся предшествующая бравада, не оставляющая после себя в душе ничего, кроме пустоты и бессилия, бравада, к которой он, несмотря на ее бесцельность, будет прибегать с ожесточенным упрямством, осознавая и тупость, и безнадежность процесса (…). И тогда следует финальный аккорд: хрипло скажет «до встречи»…
И эта хлесткая, ироничная, почти издевательская фраза утверждает для героя последнюю возможность освободиться, точнее – невозможность никакого освобождения.
Мне было любопытно подвергнуть отличное стихотворение столь тщательному разбору, чтобы прийти к выводу, что магия все равно утекла сквозь пальцы. И это побочный эффект всякой критики, безуспешного зрения в корень.
Теперь поговорим о многократных «не» и, следуя методом индукции, о русском языке Ербола Жумагулова. Когда поэт, выйдя за рамки собственной национальной культуры, пишет стихи на языке неродном, привитом не в младенческом возрасте – а именно так обстоит дело с русским языком для Ербола – это всегда факт по меньшей мере любопытный. Ерболу Жумагулову куда проще было бы сделаться певцом псевдовосточного колорита на родном языке, и поняли бы его и приняли значительно теплей, чем теперь, когда ему вздумалось занять очередь в бесконечной череде русскоязычных пиитов, где почти каждый имеет первородное право попрекнуть его грамматикой, но для старта в поэзии он выбрал все-таки русский. Трудно сказать, что явилось стимулом к этой лингвистической иммиграции. Лично я выделяю две причины: недостаточность честолюбия, чтобы соблазниться статусом первого национального поэта Казахстана; избыточность тщеславия, чтобы претендовать на титул первого русскоязычного поэта на любой, возможно большей территории. Плюс, конечно, роковое моральное подспорье в виде святой троицы – Мандельштама, Пастернака, Бродского. Особенно виноват последний. Если бы Бродский писал еще и по-казахски, возможно б, одним акыном в Алматы стало больше.
Ербол Жумагулов выбрал русский, и с чем он пришел к нему? С потрясающим, каким-то первобытным чувством языка, незнакомым и половине «местных»; с уникально яркой и точной метафоричностью; с легкостью, ажурностью лингвистических построений; с мерным, без срывов, дыханием строф; с парадоксальной логикой лексических связей в тексте; со склонностью к свободному словообразованию, в том числе, любимый ход – от противного (вот где, наконец, не-нежность и не-любовь). У Жумагулова, возможно, именно в силу его изначальной чуждости пространству русского языка, совершенно уникальное «языковое зрение», он и видит вещи, и сопрягает их, и уподобляет одну другой самым неожиданным образом. Он щедро сыплет определениями в два-три слова, каждое из которых представляет собой невероятно резкую картинку: беззубость сопливых кровель; пустые ладони/ двух подсвечников; от секундного взгляда спички; город добела/ окрашен холодом; почти случилась ночь; в конверте стекол сохнут мотыльки; виноградник созвездий накрыло ладонью тумана; гербарий/ поздней осени; тесно в зале/ ожидания счастья; ливню за окнами – гибким его и холодным спицам; за глагольную музыку внутренних разговоров; над нашим костром/ разлетаются ангелы; вернулась осень, но не на Крите; оброс/ тихо сумерками двор; из осенних моргающих звезд; всюду ночь. И особенно – в коридорах.
Когда я пытаюсь понять, откуда же произросла такая немыслимая оригинальность языка, не попадается ни одного достаточно достоверного объяснения, кроме совсем уж романтических, вроде отсутствия изначального барометрического давления русской словесности, а значит, и отсутствия типовых схем словотворчества, речевых штампов. Правда, та же самая неиспорченность цивилизацией порой дает себя знать совершенно противоположным образом, когда Жумагулов во вполне понятном юношеском упоении процессом неоднократно изобретает велосипед и весьма искренне огорчается, что новинку не запатентуешь. Но, как известно, незнание закона освобождает субъекта только от скованности движений.
С чем, кроме перечисленных достоинств, прибыл Ербол Жумагулов в русский язык? С неправильностью речи (в общем) и построения предложений (в частности); с полуавтоматической подменой смысла звучной красивостью; с неумением (или нежеланием) обойтись без «энергетических ям» в строке; с частым использованием вульгаризмов, которые отнюдь не выполняют роли «авторских проговорок» и даже в малости не создают иллюзию интимности и непринужденности беседы (с адресатом или читателем – безразлично); с привычкой затыкать прохудившиеся места в строфе вводными выражениями – как бы по делу; с порядком (и без нужды) изломанным ритмом текстов; с порой отсутствующими в тексте логическими связками; с неловкой пунктуацией и зачастую неверными ударениями. Все перечисленное легко было бы оправдать экспрессией и самобытностью автора, тогда как настоящая причина – небрежное отношение к своему творчеству, ведь чего-чего, а поэтического слуха Жумагулову не занимать.
В качестве примера неудачного текста возьмем «Преди (после?) словие к Агате Гурто (фрагмент второй)» – вещь относительно поздняя, адресат иной, строки геометрически в пару раз длинней, чем в предыдущем образце, но сути дела это не меняет.
Общее впечатление ясно. Теперь – по слогам.
Вот уже и первое «стоп». Что, кроме привлекательной звукописи, содержит данное словосочетание? Каюсь, в можжевельнике не только никогда не лежала, но даже в глаза оного не видела, и знакома с ним почти исключительно по словарям, откуда: можжевельник – хвойное дерево или кустарник семейства кипарисовых. Кипарис, правда, представляю, логически помыслив, можно предположить, что непосредственно в хвойном представителе этого семейства лежать затруднительно. Возможно, автор имел ввиду притулиться в зарослях, где-то под молодым кустиком, но, покорно прошу прощения, тогда пусть бы и позиционировал – в зарослях, либо – не в можжевельнике, а среди такового. От можжевельника обобщающего понятия, типа «ельник» от ели, вроде бы не образуешь.
Доверчивость всегда казалась мне проявлением психики живых существ. Чтобы быть доверчивым, необходимо иметь способность верить. Как можно наделить этим свойством просинь неба? Разумеется, одушевленные пейзажи – один из определеяющих факторов поэзии Жумагулова, но не до такой же степени. Скажем «нет» оголтелому антропоморфизму! Вообще же, и «последняя минута» тоже логически ничем не оправдана – лирические герои разглагольствуют еще минимум три минуты и две строфы. Как раз – типичный пример «необязательных слов», энергетического провала в тексте, который щедро продолжается столь же рефлексивной необязательностью:
В сущности, вместо этой строки в тексте может стоять любая другая, упоминаться все, что угодно – и это не нарушило бы ощущения плотности и целостности (вернее, их отсутствия). Такая легкость строк к взаимозаменяемости для меня – очень скверный признак относительно качества стихотворения, в котором, идеально, должно быть невозможно вырезать (и музыкально, и смыслово) ни единого слова, не оставив кровоточащей раны. Здесь же вторую строку можно без особого ущерба заменить практически любой нижеследующей.
Однако далее автор берется за ум, решаясь порадовать читателя метафорой, несколько обнадеживающей на перспективу, хотя она, эта метафора, и не слишком нова сама по себе, и – что главное – абсолютно не связана с изложенным ранее:
Метафора предполагает развитие, но Жумагулов и развивает, и разъясняет ее с обескураживающей парадоксальностью. Жизнь, оказывается – как строка, потому что:
Надо ли говорить, что я завидую Ерболу? Ему сей факт непонятен. Я, как грубый материалист, полагаю, что жизнь, в отличие от строки, финиширует игрой в ящик. Но это вопрос мировоззрения. Он же развивает свою мысль:
В сущности, чистое человеколюбие помешало автору продолжить в четвертой строке: двоеточием ли, точкой ли с запятой, апострофом, восклицательным знаком, местоимением ли, междометием, пешеходным ли переходом, дорожно-транспортным происшествием, обезьянником ли, реанимацией… (и далее – пару строф непринужденной импровизации)…
И действительно – кто? Предположение о том, что жизнь, как строка, может быть не дописана, несмотря на свою кажущуюся глубину, на самом деле поверхностно, поскольку жизнь, в отличие от строки, конечна, и никаким поэтическим уподоблением этой конечности не опровергнуть. Но это полбеды. Оборот в скобках опять поражает свое спокойной никчемностью.
Кроме того, если рифму «просинью – вопросом ли» еще можно при симпатии счесть наличествующей, хотя и неточной, то «присутствует – посочувствует» – вот вам и повод для мелкого злорадства – использование глагольных. И дело не в том, что лично я глагольных рифм не люблю, в то время как Александр Сергеевич любил, а в том, что надо быть Пушкиным, чтобы глагольные рифмы свидетельствовали об изысканной простоте стиля, а не подчеркивали его убожество.
Очнулась в некотором логическом замешательстве, не уловив согласований: кто кому что оставляет? Потом с запозданием осознала: жизнь, из первой строфы, та, которая как строка, оставляет пространству (внимание: автор не хуже читателя наблюдает в теле стиха яму, которую надо заполнить… но чем? И в легкой панике он закрывает глаза и, набрав в легкие побольше воздуху, решительно скатывается с обрыва в овраг):
Ничего себе – «лишь»! Опять стайка разведенных Жумагуловым недописей ничего, кроме шума в ушах, не производит и смысловой нагрузки не несет. Когда же к этому перечислению союзный предлог «и» присоединяет «последнюю фотографию», эта последняя смотрится среди товарищей по несчастью удивительно белой вороной – она по тексту появилась ниоткуда, ничем не обоснована, ничем не подтверждена.
О да, мне тоже. Аж жуть, особенно если подумаю, что еще полторы строфы к преодолению впереди.
Необоснованный возврат к можжевельнику оставляет назойливое ощущение пустоты строки, следующие за ним блюз и аперитив только подтверждают гипотезу, тем паче, что далее автор позволяет себе употребить невероятно глубокомысленную словесную конструкцию:
Сознаюсь: и отпит это самый несозревший аперитив (хотя к чему бы ему зреть? – зреет обычно вино, но задолго до состояния аперитива) – мне понятно ничуть не более, чем Ерболу Жумагулову. Тем паче, слишком явственно зияет в этой фразе отсутствие существительного. каким зачем
Откровенно говоря, единственное, что мне безусловно нравится и в строфе, и в тексте в целом – эта вот вечная банальность любовного лепета. Она правдива, хотя неизобретательна, и слегка, как любви и подобает, туповата, а потому не вызывает нареканий.
В третьей строфе, наконец, становится ясно, что именно парочка лирических героев позабыла в кусте семейства кипарисовых:
Какие ожидания-встречи, что завершилось, чего осталось немного, и почему все это приятно двоим ментальным садомазохистам – автор не желает пояснять ни в малой степени, то ли полагая, что все и так понятно, то ли будучи уверен, что все равно не поймут; а чтоб читатель не расслаблялся, он подкидывает удачную аллюзию на оскоминную фразу о неприличии купания дважды в запрещенном месте:
Но далее следует очередная грамматическая конструкция без подлежащего (похоже, это концептуально):
Нет плеч, кроме конкретных? – так надо, по-видимому, понимать. Но это нормальное лирическое вранье, опричь конкретных плеч у героя есть минимум еще парочка – собственных.
Финал настигает неумолимым заворотом кишок:
Если кто-нибудь, включая автора, сумеет мне объяснить, причем тут небумажные журавли (и что вообще все это значит) – буду искренне признательна. Лично я могу придумать этой странной фразе десяток роскошных по красоте мотиваций, но грубо подозреваю, что настоящая мотивация сей птичке одна, и самая что ни на есть банальная – рифма. Не особенно точная рифма, сознаемся откровенно.
В итоге «энергетическая плотность» текстов Жумагулова оставляет очень неровное впечатление. Если говорить о степени однородности, сплошности, то поэтическая материя здесь – не камень, не металл, не бумага, даже не ткань. Тело стиха напоминает собой рыболовную сеть, в узловых точках которой – емкие метафоры, смелые образы, яркая рифма. При соприкосновении читательского зрения с этими болевыми узлами и прожигает электричество, возникает искра, настигает шок от сопричастия и сопереживания. Во всех остальных случаях то же читательское зрение благословенно и невредимо уплывает за пределы садка. Между тем как ловля человечьей души в поэзию должна быть стопроцентно эффективной.
С другой стороны, любой недостаток граничит с достоинством; еще Великому Гудвину было известно, что цвет жизни напрямую зависит от цвета очков. Я не зря употребила в адрес поэзии Жумагулова словечко «текстосновидения». В этом плане Жумагулов сам о себе – микрожанр. Мне еще не встречалось автора, которому удавалось бы излагать свои мысли так путанно и одновременно – прозрачно. Волей-неволей посетит предположение, что все, что делает Ербол, он делает неспроста. Тексты эти и вправду напоминают собой стенограмму осколков речи, возникающих в сознании не вполне проснувшегося человека. Однако законы жанра здесь тонки, один лишь шаг – и неминуемо сорвешься или в заумное словоблудие, или в пустую подделку под искренность. Лонжей служит художественный вкус.
Вместе с тем, Ербол Жумагулов – несомненно, поэт generation next (в лучшем смысле этих двух простых нерусских слов). И дело даже не в возрасте автора (едва перевалило за двадцать), и не в нормальном юношеском максимализме, иконо- и богоборчестве. Но время рождения и взросления задает поэту рамки существования. Восьмидесятые протравили в умах своих детей печать преждевременной, полуциничной откровенности. Отсюда, пожалуй, это выстраивание мира в отрицательных категориях, когда не-нежность и не-любовь – такие же реальные компоненты обжитого человеческого пространства, как любовь и нежность.
Возможно, это и есть уже изрядно утраченный мной мир двадцатилетних, тех, кто будет после меня; мир, в котором биологически проще идти от отрицания и доказывать от противного, мир, где мертвые слова утратили соль, где из магических соображений следует называть слова не своими именами – тогда, под масками, укрытые от лжи, они оживают, заново вбирая и соль, и кровь земли. Ербол Жумагулов многократно перемножает минус на минус до тех пор, пока эта жесткая реанимация не выведет затертые слова из многолетней комы.
В этом ожесточенном отрицании живой крови больше, чем в километрах внешне положительных текстов.
Поэзия Жумагулова – это процесс обживания циничного мира глубоко ранимым человеком. Сознание лирического героя и пространство стиха расколоты до самого сокровенного реальностью, вторгшейся в поле речи без всякой жалости либо сочувствия к производимым разрушениям. Если вдуматься, то, конечно, Жумагулов злободневен, но злободневен апокалиптически:
Внутреннее пространство его стихов сжато, сложно структурировано наподобие сот, и время, затекая в отдельные ячейки, замедляет ход, загустевает, гаснет:
Эта чернота в превосходной степени – тьма безоконных нор – зримо впитывает и гасит шевеление самой слабой секунды.
Любопытно играет и вкрапление в поэтический текст красот параллельного мира – интернет-технологий. Я и в самом деле ни у кого из знакомых мне авторов не встречала пока такого гибкого, яркого, органичного осмысления средств электронной коммуникации:
Впору запросить комиссионные с Microsoft. Попутно обращаю внимание на изумительную звукопись:
Хотя воспетая Жумагуловым «электронка» – частный случай его красноречия, повторю, это первый на моей памяти удачный случай привнесения романтики в использование средств программного обеспечения. И это запоминается. Впрочем, его лирическому герою вообще свойственно извлекать романтику одушевленности отнюдь не из собратьев по стае, человеков, а из предметов косного материального мира. Последние полностью подчиняются его волшебству.