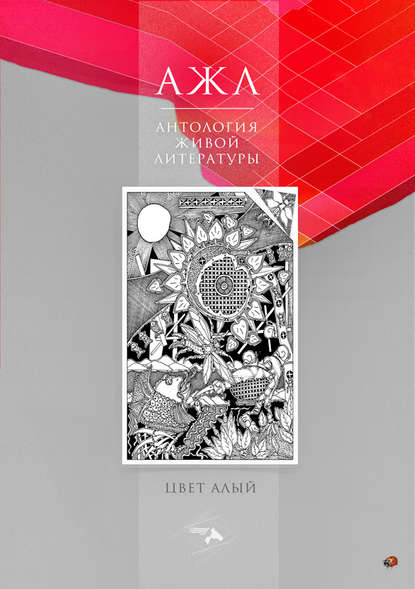Полная версия
Сквозь зеркала и отражения
В магазине бичпакеты – для бичей. В аптеке боярышник – для оных же, «бояр». Разок сам попробовал – не его букет. Ждут уже, бояре. Поглаживают псов, к нему тем самым подлизываясь. За торговым центром два контейнера. В них овощи обычно хранят. Хранили. Сейчас в них «фруктики» обретаются, все сплошь перегнившие. Местная алкашня. Его круг, его пентаграмма общения. Разбирают гостинцы. Радушно похлопывают, уступая лучшее место в своем гадюшнике. Макаров забавляется игрой в распознавание. Если кого-то не доискивается, значит, подохли. Пополнение в аду. Весь отчий дом к его возвращению загадят. Впрочем, он перестал верить в саму возможность возвращения.
Средневековье на задворках супермаркета. До старости не доживают. Болезни лечат кровопусканием. Водой брезгуют из боязни травануться. Свальный грех по праздникам. Макаров частенько находит здесь «свет моей жизни, огонь моих чресел»[2]. Правда, дело тонкое. Важно не опоздать. Поспеть до того, как очередную дамочку опустившуюся попортят «фруктики». Эти женщины приходят сюда, когда идти больше некуда. Скатываются, сползают с чистой гладко выбритой щеки божьей в непотребство нижнее. Макаров подхватывает огрубелыми руками дворника и несет в свое логово, а там дотрахивает огрызки души. Он почти осязает их съежившиеся, изъеденные пьянством и развратом душонки. Боятся его. Забиваются жалкие карлики в руины человеческого. Пытаются спрятаться в развалинах. Но Макаров и там их настигает и дотрахивает. Потом слушает истории. Бабьи истории о том, как мир жесток. Как их сломали мужики и скольких детей они потеряли. Скольких никогда не увидят и как они их любят. Макаров кое-что утаивает и не открывает, только ему известное. Про самый страшный грех он умалчивает, чтоб раньше времени не расстроились и продолжали насасывать. Про грех матери. Не рассказывает дамочкам, что мать, бросившая ребенка – любимое лакомство чертей. Что «Мать – это имя Божие на устах и в сердцах всех детей»…[3]
Бояре сегодня какие-то загадочные. Улыбаются таинственно, меж собой переглядываясь. Чуть похмелившись, они торжественно вводят ее. Подарок Макарову. Жертвоприношение. Специально для него сберегли новообращенную. Не притронулось племя к заблудившейся в чаще. Право первой ночи… Макаров изучает смущенную скво. У нее, блин, полбашки нахер нету. Правая половина черепа, по косой от крайней точки лба к крайней точки надбровной дуги, почти плоская.
– Что с тобой, милая?
– Муж дверь о голову закрыл… несколько раз.
– Изящно…
Она никогда не привыкнет к этим вопросам, взглядам. Макарову сейчас на это плевать. Полбашки нет, а остатки лица – прекрасны. И пьянство не все пожрало. Отметилось малостью морщин и жесткой носогубной складкой. Глаза серые, дикие – опасное серебро. Сама высокая, стройная. Зашевелился дворник в Макарове. Хрен встал, дворник зашевелился, и демоны впервые за день притихли. «Там еще поле не паханное, трахать не перетрахать душеньку», – думает он, галантно потеснившись. Усаживает рядом с собой на чистое. Шикает на бичей с их боярышником и, подув в стакан, наливает собственное. Наблюдает за тем, как она пьет. Радуется, что замечает в ней жадность до водки. Значит, все-таки увязла. Давно больна. Далеко зашло. Не вернуться. Далеко зашла. Не вернется. Есть на что опереться, с чем поработать.
– Называйте меня Макаровым.
– Называйте меня Ликой.
– Ты, бл…, что о себе думаешь?! Я буду называть тебя так, как мне захочется.
– Все-таки лучше начать с Лики.
– Хорошо… Лика.
– Я здесь вторую ночь… Все говорят о вас. Вы кто?
– Я дворник.
– О дворниках так не говорят.
– Как?
– Со страхом и уважением.
– Просто я страшный и уважаемый… Я страшный?
Лика поворачивается не обезображенной стороной лица и смущенно изучает Макарова.
– Я парикмахер.
– Я дворник.
– Я вас подстригу… и нет, вы не страшный.
– Я ем сырое мясо.
– Я его поджарю для вас.
– Это я тебя отжарю, суч-ч… Лика…
– Вот видите, с именем уже справились.
В постели тоже странное своеобразие. Это Макаров узнал тем же вечером. Лика старается. Не эгоистка. Заметно проголодалась, но ее жадность до ласки не отталкивающая. Обычная жестокость Макарова как-то не увязывается с Ликой. И прихватывает-то за волосы, но тянет без усердия. И смыкает-то ручищи на ее шее, но не передавливает. Иная музыка соития. Что-то новенькое. И вроде как достает хером своим, дотягивается до души бабской ее, а кончает, о другое разбиваясь. Иная музыка…
Несколько суток пьют и совокупляются. Лика в перерывах прибирается в его логовище. Приручает пространство. Макаров не против. Лика всякий раз, когда думает, что Макаров ее не видит, тискает фотокарточку. Дворник и без вящей заинтересованности знает, кто там. Очередное чадо. Агнец светлоокий, безвинный, брошенный. Но не в случае Лики. В ее случае – отобранный.
Лику выгнал муж. Оторвал от сына. Макаров чует запашок незаживающей души. Бывший муж – спивающийся доктор. Скатился. Катается теперь на «скорой помощи». Свекровь за мальчиком присматривает. Пятилетний херувим – Сёмочка. Лика подвывает по ночам. Собаки вторят. Бесы облизываются. Макаров пьет и увещевает чертей оставить Лику в покое. Двери об голову врач закрывает с недавних пор. Лика говорит, что будто подменили. Макаров хохочет. Осекается. Муженек работал педиатром. В церковь ходил. Не на показ, а действительно веровал и ее приобщал. Пытался лечить верой. Лика не то чтобы бесчинствовала – просто запойная. Тихонько утоляла жажду да о Сёмушке заботилась, пылинки сдувала. Сам мальчик случился чудесным образом. Когда забеременела, то думали аборт сделать: возраст, здоровье, алкоголизм. И было назначено число, но в анализах нашли гепатит. Отказались абортировать до обследования. Свезли в инфекционную, а срок уже поджимал. В общем, к выписке уже поздно было, и ей так и сказали: «Очень жить хочется ребеночку вашему».
Макаров пристраивается к Лике. По-другому не умеет пожалеть. Она отталкивает – он не перегибает. Странная баба. Странно Макарову рядом и поодаль. Когда выходит двор убирать, то опасается, вернувшись, не застать ее. Так не раз случалось с другими скво. Обычно сам выгонял, и уходили пустыми, до дна вытраханными. Лика уже долго живет. Много дольше остальных. Странно…
Будто подменили доктора. Стал вместе с Ликой выпивать. И не ее аппетитами. Остервенело. Говорил, что свет ушел. «Из него, бл…, свет ушел!» Лика недоумевала. Макаров видел уже такое. После попоек доктор ее винил, что это она, мол, ему бутылку сосватала. Мол, он ее из говна, а она его – в говно, и как теперь детишек лечить, когда не чувствуешь, когда свет ушел. Шарахались от его рук детишки. Руки научились делать больно. Поначалу бил изредка. Дальше – больше. Лика однажды воткнула ему в шею ножницы. Не помер. Радовались вместе. Снова любили. Примерно пару недель. А потом дверь закрыл о ее голову… несколько раз. Чудом выжила. Больше не любила. Лика сожалеет, что дурочкой после не осталась. Имелись все шансы. Было бы легче, наверное. Из больницы вернулась к той же двери, только запертой. Уже не мешалась ее голова. Свекровь по ту сторону объявила общее с сыном решение о том, что более Лика с ними не проживает. Не совсем общее. Сёмушка рыдал в замочную скважину. Звал Маму. Мама молча ушла, кутая обезображенное лицо в воротник пальто.
Макаров ерзает. Банально все это, и слышал не раз подобный жанр. Слышал, но не вслушивался. А сейчас с ним делятся, и это прилипает к Макарову и вроде как его становится. Его переживанием. Слово-то какое – ПЕ-РЕ-ЖИ-ВА-НИЕ… Это не мясо пережевывать, которое с недавних пор жареное. Это – ПЕ-РЕ-ЖИ-ВА-НИЕ… Тьфу! Дворник все чаще стал елозить внутри Макарова. Поднимает его со дна на поверхность, тащит нечто. Макаров не сразу прогоняет. Прислушивается. Дворник долго молчит. Молчание не пустое, и когда дворник уже было собирается ему что-то сказать, Макаров его топит. Впервые чувствует общее. Переживание. Оба о чем-то неясном догадываются.
День рождения Сёмочки. Лика садится напротив. Пришло время. Макаров недовольно ощеряется. Собаки и демоны возбуждены, суетливы. Доктор, ну тот, из которого свет ушел, не дает сына поздравить. Уже давно перестал на телефонные звонки отвечать. Раньше хоть переговаривалась с сыном. Голосом его из трубки питалась, жила. Рассказывала Макарову о новых словах, что Сёмочка произносит. Муж хотел ее вернуть. Заманивал ласковым голосом. Лика знала зачем – добить. Макаров скалится на это ее соображение, глуховато порыкивает с псами. Сколько времени пройдет, прежде чем сын не узнает ее голос, прежде чем ужаснется, случайно встретив на улице страшную тетю.
– Знаешь, зачем я с тобой пошла?
– Я охеренный?
– Думала, что такой убьет.
– Да брось, просто не смогла устоять, ха-ха…
– А ты не убил, но я по-прежнему думаю, что способен помочь.
– Может, просто украдем его? На прогулке, там… из садика?
– Не неси!
– Сколько там, бишь, ему?
– Шесть лет исполняется…
– Угу… кхм… значит, вот тебе деньги на подарок, адрес напиши на бумажке.
Июнь выдался жарким. Псы изнывают и вяло, по-воловьи обмахиваются хвостами от помойных мух. К вечеру не так печет. Макаров пережидает дневную духоту в прохладных контейнерах «фруктиков». Почти все незнакомые. Один остался из тех, что весной привели ему Лику. Совсем старый и больной. Не берет лицо загар. Бледный, потный, почти не пьет. Плохой признак. Перемежает кровавый кашель с болтовней о боге. Спешит к нему. Уверен, что там его заждались. Макаров хохочет. Никто не ждет. Ни наверху никого, ни внизу – не ждет. Старик обзывает его нехристем. Раньше-то и смотрел кратко, едва промаргивал Макарова и опускал голову. Теперь не боится. Макаров дает денег старику и выпивает на посошок. Еще раз вглядывается в мятую бумажку с адресом.
Три сигареты спустя добирается. Потный, бледный, задумчивый. У подъезда вызывает такси и в ожидании распечатывает шкалик. Выстроившиеся перед ним демоны также непривычно молчаливы. Смотрят всем, чем умеют, и молчат. Торжественные, мать их, какие-то. Макаров догадывается, почему. Потный, бледный, задумчивый. И водка не лезет. Когда такое было? Плохой признак. Подъезжает такси. Просит водилу дождаться его, он, дескать, быстро. Псы окружают машину – не уедет.
Поднимается, озираясь на номера квартир. У нужной замирает. Прикладывает ухо к дверному проему. Слышит мальчика и еще кого-то. Не важно. Стучит. Дверь открывается, и он порывается вперед, но цепочка останавливает, и свекровь с той стороны подозрительно косится. Не дает ей и слова вымолвить. Быстро проводит топором сверху вниз, срывая цепочку, и толкает дверь. Мальчик появляется в комнатном проеме. Макаров отбрасывает топор в сторону и кидает свое тело к нему.
– Подожди, милый! Скоро к Маме пойдем!
Запирает малого в комнате. Бабка все это время виснет на нем, дерет волосья, царапает спину. Дверь ванной открывается. Нет времени на старую. С размаху, тыльной стороной кулака сшибает ее в угол.
– Мама?! – А вот и доктор. Смотрит на Макарова. На мать в углу. Прыгает на Макарова. Высокий. Не пропил еще силу. Макаров неудачно запинается о половик и доктор, оседлав его, охаживает кулаками. Радуясь боли, чувствуя кровь, Макаров не глядя вставляет руку с навершием кулака вертикальной шпалой снизу вверх. Удары идут на убыль и совсем прекращаются. Доктор изумленно смотрит на Макарова, рукой прикрывая рот. Когда убирает ладонь, на Макарова проливается кровь вперемешку с зубами.
– Ты мне шелусть шломал!!!
Дворник хохочет и почти любовным рывком бедер вверх сбрасывает доктора. Теперь он на нем восседает. Не глядя загребает из-за спины первого попавшегося демона и, запуская пятерню в раздолбанную пасть врача, утрамбовывает туда черта. Доктор закашливается. Макаров наваливается на него всем телом, не давая сблевать. Доктор бьется в непродолжительных конвульсиях, но вскоре затихает.
– Все? – спрашивает Макаров.
– Шлезь ш меня…
Макаров отваливается в сторону, к стене. Отдыхивается. Доктор с трудом поднимается. С безобразной улыбкой кивает Макарову. Осматривает себя со всех сторон.
– Ты мне шелусть шломал, – обидчиво бурчит он.
– Вылечишь, ты же врач, хех…
– Шерьешно? Врач?
– Угу.
– Годно…
Макаров ощупывает внутренний карман и облегченно достает бутылку. Не разбилась. Делает большой глоток. Передает доктору. Тот пьет и давится с непривычки и боли. Оба ржут.
– А ш этой што? – кивает доктор на так и не очухавшуюся свекровь. – Мошно, я ее шьем?
– Это мать твоя!
– Так мошно?
– Не можно, дебил! – раздраженно отмахивается Макаров и с трудом поднимается. Оглядывает все таких же молчаливых, но беспокойно переминающихся чертей. Выбирает самого мерзкого и никчемного и направляется с ним к старой.
– Как очухается, объяснишь ей.
– Агаме…
– И смотри не сожри… мне пора…
Макаров осторожно открывает дверь в детскую. Мальчик сидит за столом. Рисует. Оглядывается на Макарова. Опасливо так, скоренько, и снова в рисунок. Побаивается.
– Привет, Сёма!
– Здравствуйте.
– С днем рождения!
– Спасибо.
– Поедем к маме?
– Да-а-а! – протяжно и вмиг повеселев, восклицает мальчик.
– Она тебя заждалась. Никак не разберется, что с подарком делать. Покажи, где твоя одежда.
Спускаются. Такси не уехало. Псы ластятся, довольные собой, облизывают мальчика. На столе дрожит от сквозняка рисунок: черный человек с метлой в окружении собак и воронья.
Пока ехали, мальчик уснул на коленях Макарова. Тот поглаживал его по голове и курил в окно. Похож на мать. Русые волосы, а в глаза серебра просыпано. Теплый. Потеет во сне, подергивается. Мать тоже беспокойно спит. Обрадуется… как же она обрадуется. Вот к чему все пришло. Никак не предполагал, что шестой будет радостью. Никогда бы не подумал, что хоть кого-то на этой земле порадует. Неисповедимы… Ничьи… Ни того, что изгнан – пути, ни того, что изгнал.
Передает спящего мальчика Лике. Та принимает на руки бережно. Красивая. Неисповедимы… Вся обращена к ребенку. Единение. Макаров лишний. Его заслуга. Доволен собой. На славу потрудился. Прибрался. Никто не упрекнет. Лишний…
Глубокой ночью Макаров будит Лику и отводит на кухню.
– Обещала подстричь.
– Садись.
Лика моет его голову над тазом. Ее руки приятно мнут череп. Склоненное лицо Макарова лижут псы. Отмахивается от них. Не дает пить из таза. Пьет водку. Жадно. Не от жажды жадно, а впрок… Макаров более не гонит дворника. Не топит. Да и не уверен, сможет ли уже. Не скажет с уверенностью, кого сейчас в нем больше… грустно… Волосы опадают по сторонам, щекочут щеки. Макаров хихикает. Смаргивает слезы. Гладит Лику по коленкам, вжимаясь лицом в ее грудь. Та просит, чтоб не дергался – опасно. Похоже на онемение. Будто все тело немеет. Перестаешь чувствовать, управлять. Прощай, чудесный сад. Бритва скользит по щекам. Макаров недвижим. Не дергается. Даже если бы захотел. «Ты кто?» – спрашивает дворник, проявляясь все четче. – «Не важно… уже ухожу… за псами присмотри…»
Демоны не хотели уходить. Тогда он стал тихонько им напевать.
… фром де хандс ит кейм даун…И потянулись тени за тенью.
… фром де сайд ит кейм даун…Прочь из жилища дворника.
… фром де фит ит кейм дау…С чисто выметенного двора, в белую ночь.
… энд ран ту де граунд…Идеальное устройство
Устройство таракана, как и всего прочего, временно живого – всегда интересовало Аксена. По черной узловатой поверхности стола полз к хлебу – рыжий, с зимы сонный и глупый. Шесть лап, усы и крылья. Немногие разглядывали крылья. Да и кому вообще это надо, кроме любознательного Аксена. Но он про крылья знал. А еще знал, что самцы от испуга и взлететь могут. Вот бы человека кто так напугал. Аксен хмыкнул недвижимо при мысли, что и сам бы мог так же ползти к съедобной горе. И что бы его остановило? Ведь экая горища восхитительная и вся съедобная. И если бы человеческий мир состоял из таких вот вкусных питательных громад, то не было бы нужды убиваться. Ниже пояса у Аксена шевельнулось от плотно представленной мысли о жизни, полной размножения и сытости. И того и другого в его собственном временно живом существовании никогда толком не случалось. Аксен еще раз напоследок рассмотрел почти прозрачного, с взъерошенной шерсткой лапок и подрагивающими усиками таракана и, незаметным быстрым движением схватив хлебную, подходяще подсохшую краюху, придавил. Отчетливый краткий хруст в очередной раз утвердил Аксена в мысли, что надо быть мягче. Мягкое убить сложнее. Залюбовавшись рассветным солнцем, осветившим скудный интерьер его избы, Аксен доел хлеб и запил его смородиновым кипятком.
Пробудный утренний мир возбуждал в Аксене самые благостные чувства. Умилял, можно сказать. Все это пока неповоротливое, медленное, беззаботное население земной тверди по утрам не помнило о смерти. Ведь вот накануне с приходом ночи уже пришлось помереть, а сейчас смотрите-ка, воскресли, и в отдохнувшем теле столько здоровья и свежести. Легче всего убивать по утрам. Аксен, умываясь дождевой водой из бочки на дворе, сам все оглядывается с улыбкой за спину, не крадется ли озорник какой по его собственную утреннею безмятежную душу. Но таких прозорливых не сыскать, ведь убийцы и жертвы по утрам на одной ладони: вот бы накрыть бережно всех разом и, встряхнув в кулаке, перемешать.
Работать еще рано, и можно побродить по вкусно пахнущему лесу. Изба Аксена на самой окраине деревенской. Всего домов и полсотни не насчитаешь, даже часовенку не смастачили, но и здесь живут. Северный край сгущает людей, срезает шероховатости и минимум, необходимый для выживания в других местах, здесь его максимум. С пригорка Аксен поглядывает на оживающие человечьим прямохождением дворы. Прислушивается к неопрятным звукам людской речи, оттесняющим природные ночные. За спиной все это оставляет, широким шагом приближаясь к гордому лесному массиву. Росту в Аксене немало, до многого дотягивается. Правда, недоедливую худобу хочется наполнить не только мышцами и сухожилиями, но и плотным мяском. Аксен не считает свое время, только на десятки обращает внимание. Помнит, что сейчас пятый пошел. Волос уже не такой густой, и седого в нем больше, чем русого.
Утренний лес дышит медленно, взвеси туманные, будто все оплетающая паутина. Аксен даже задирает голову в неосознанной попытке увидеть подбрюшье того несусветного паучины.
Резиновые сапоги прохудились за зиму от сухого истопного воздуха и пропускают росистую влагу. Но Аксену это даже приятно. Раньше и вовсе обувью пренебрегал, бродя по лесам босыми, мозолистыми, с шарообразными косточками стопами. Но шкура аксенова все тоньше, и мозоли скорее болят, чем оберегают: так что теперь только так – в сапожках с дырочками.
Он медленно пробирается своими тропами, разгребая руками ельник, приближаясь к полянкам с лиственной породой. Выйдя на такую, обхаживает осинки. Поглаживает ветки, прихватывает кольцом большого и указательного пальца. Находя нужную, срезает исходящую пенистой влагой ветвь и пристраивает на пояс в веревочную петлю. Близится лето, и тогда ремесло Аксеново еще как люду понадобится. Известный мастер силков, ловушек, мышеловок, капканов – Аксен более всего преуспел в изготовлении мухобоек. Крестьянского труда избегающий, по естественной странной неприспособленности, Аксен и выживал до сего дня только орудиями точного убийства. Не шибко для радости телесной выживал, но и на том спасибо. Странное его ремесло не всегда было ему по душе. Многое возмущение ерзало в нем по молодости, но смирило его ощущение предназначения. Когда нечто выходит с природной ловкостью и сноровкой, то примиряешься с самим характером этого ловкого и просто радуешься.
Возвращался, когда уже птицы вдоволь прочистили глотки утренние и со всем прочим занялись делом. Значит, и ему пора. В небольшой пристройке в стороне от дома была его мастерская. По дощатым стенам на сотых гвоздях были развешены: железные скобы капканов, петли силков, заготовки мышеловок, плетеные сетки самоловок. Аксен, присев на чурку, принялся ножом обтесывать свежесобранные ветки. Лезвие шло замечательно легко и ничуть не занозливо. С живого, пока еще не подсохшего дерева всегда хорошо слезает кора. Аксен даже проголодался от этого сладкого процесса и украдкой облизывал осиновый сок с пальцев. На полу рос змеиный клубок срезанной коры, и он нервно вздрагивал, когда случайно бросал взгляд под ноги. Закончив со свежаком, сложил на полку, чтоб просушилось, а с полки пониже взял уже годные для работы заготовки.
Всякий может сделать мухобойку. Принцип не так и сложен. Но самодел будет ломок, либо тяжел, либо мазать все стены дрянью насекомою, либо сдувать кровопивцев разнообразных вовсе. Аксен долгие лета совершенствовал свои устройства. Сейчас начал с того, что загонял в ветки железные пруты. Не на всю длину. Чуть заходя за держало. Навершие с ударной частью должно было сохранять некоторую гибкость. До этого он уже обработал подсохшие заготовки своим особым составом из машинных отходов, чтобы они не щепились при вгонке стержня. Аксен нежно, едва ли не прислушиваясь к дереву в тисках, вводил прутья в сердцевину. Где протаскивал с натугой, а где легко, чуть ли не рывком вгонял на нужную длину. Вроде одна и та же начинка деревянная, ан нет, каждая ветка со своим характером потеряла жизнь. Одни обозленно-черство растрескались, другие обреченно-расслабленно размягчились. Когда Аксену случалось бывать на деревенских похоронах, куда его звали не из особой приязни, а из корыстной необходимости, он и там присматривался к более не живым. Уложенные во гробе, они сохраняли на своих холодных лицах то, что было понятно Аксену. Считывал он с лиц покойников, как оставляли они свои тела. И понимал, какое усердие понадобится, если и в них вдруг придется втиснуть железную спицу.
Закончив с ручками, выволок из-под скамьи автомобильную камеру и стал кроить шлепала. Нож с мягкой неотвратимостью, словно по подтаявшему маслу, шел по резине. Движения Аксена были точны, и не было нужды в лекалах. Резиновые черные шматы выходили одноразмерными, и он складывал их в ладную стопочку на краю верстака. Думал о том, что смерть – это все-таки черный цвет. Кровь с мясом принимаются черным естественно, без расстраивающего взгляд безобразия. Вот и люди черными своих провожают, и те недолго остаются бескровно-бледными и вскорости тоже чернеют.
Подготовленные ветки и резиновые шлепала надо было совместить, приспособить друг к другу. Аксен расщеплял концы веток и, раздвигая деревянные рты ножом, втискивал туда черные языки шлепал. Далее перематывал накрепко бечевой и для пущей надежности, поверх, еще проволокой. Время все равно рано или поздно расслабит крепленое, но Аксен хотел отыграть у него как можно больше и от вящего усердия весь пропотел и продрог пальцами. Справившись с самым важным, размял кисть взмахами каждой заготовкой. Все держалось ладно. Самой приятной работой для него была последняя ее часть. Аксен окунал чуть взъерошенную кисточку в баночку и покрывал лаком ручки мухобоек. Прозрачный вязкий мед лака принимался деревом, пропитывая каждую трещинку, каждый заусенец. В Аксене тоже в тот момент все смягчалось. Обветренные тисненые черты лица разглаживались, слегка затронутые улыбкой. Носом он чуял переминающуюся у дверей мастерской весну, и оставалось только дождаться, когда народятся временно живые, для которых он уже изготовил свои идеальные устройства.
– Ты чего, старая, их в рукавицу-то? Тесно ведь.
– А не все равно ли?! Столоваться будешь или с собой жрачку прихватишь?
– С собой… пищат ведь…
Бабка неприязненно смотрела на Аксена и на шевелящуюся, наполненную попискивающими котятами рабочую промасленную рукавицу в его руках. По бабкиному холщовому, цвета мешковины лбу ползала муха. Она не могла не чувствовать щекотливого зуда, но словно откладывала отмахнуться. Аксен украдкой пододвинул к ней лежащую на столе мухобойку, покрытую сукровистой размазней.
– Иди уже, убивец!
Аксен еще раз разочарованно коснулся мухобойки и, прихватив кулек съестного, пошел к дверям. Уже на выходе услышал звонкий шлепок и улыбнулся. Звук был хороший – его работа. Аксен, выходя со двора, оглядывался на селян и хотел как-то спрятать шевелящуюся рукавицу, но запахнуть было нечем, лето выдалось жарким. Сунул под рубаху и, хмыкнув, вздрогнул от прикосновения к коже теплого и мягкого.
– Здоров, Аксен! – поприветствовал его Пашка, сын деревенского старосты. – Уж лучше б баба с ведром!
– Чаво? – не понял Аксен.
– Примету знаешь?
– Про бабу?
– Не, та старая. Новую. Встретил Аксена – быть неживому.
Аксен на секунду задумался, перекатывая словечки в голове.
– Не складно как-то, – нахмурился он
– Зато жизненно. Моя женка по осени разродиться должна, так что будь добр на глаза не попадаться.
Пашку Аксен помнил еще пацаном, который с опаской заглядывал в его мастерскую и просил в подробностях рассказать об устройствах Аксеновых. Прошлым годом Пашка вернулся из армейки и дюже поздоровел и поглупел. С месяц дым коромыслом стоял над деревней от его загула дембельного. Сейчас Пашка с опасной похмельной улыбкой зыркал на Аксена и сжимал и разжимал кулаки.