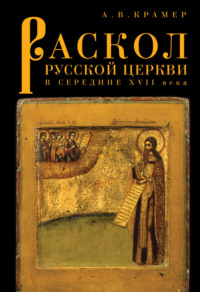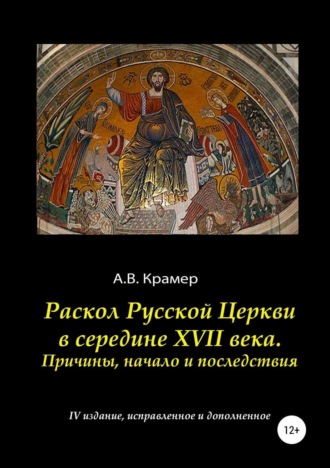
Полная версия
Раскол Русской Церкви в середине XVII века
Полная власть русского царя в церковных (как и во всех прочих) делах, его полное и в этом «самодержавие», конечно, имело фундаментом не закон, не парламентский акт, не лист бумаги с печатью, не богатство царской казны, не полицию и даже не войско, но безграничную любовь всего русского народа к царю и безграничную же преданность народа как идее самодержавия, так и лично самодержцу. Эту любовь и эту преданность (сломанные только 1-й мировой войной, что стало величайшей трагедией России) отметили с XV по XX вв., как несомненый факт, сотни иностранных наблюдателей, которым он бросался в глаза благодаря своей несхожести с положением на их родине – на Западе. Из сотен соответствующих цитат приведу одну: имп. Елизавета Алексеевна 28.12.1809/9.1.1810 писала из Петербурга своей матери Амалии маркграфине Баденской в Карлсруэ: «<Император Александр I> очень доволен своей поездкой, в Москве его принимали со всеми проявлениями чувств, которые русский народ всегда высказывает своим государям. Мне кажется, что в этом смысле нет лучше нации, которая проявляла бы такую привязанность и безотчетную преданность монарху, титул которого для нее священен…» [137, с. 264–265].
Царскому правительству предстояла и другая, не менее важная, трудная и актуальная задача: ослабить культурную изоляцию России. Важнейшим шагом в этом направлении должно было стать замужество царевны Ирины Михайловны, которую отец решил в 1643 г. выдать за «датского принца Вальдемара».
Это была четвертая в XVII в. попытка породнить русский царский дом с правящими фамилиями лютеранской Европы. Первую совершил Годунов в самом начале века (пытался выдать свою дочь Ксению за принца Иоганна Датского), и две – царь Михаил Федорович в 1621 и 1632 гг. Все три были отвергнуты монархами Дании и Швеции. В противоположность этому, еще до Смуты, «в 1573 году состоялся брак дочери князя Владимира Андреевича Старицкого <…> Марьи Владимировны с датским принцем Магнусом» [236, с. 689] – лютеранином, конечно. Отношение русских к католиком было совсем иным; после Смуты недоверие и неприязнь всех русских и, в частности, руководителя, фактически, русской политики патриарха Филарета, к католикам были очень велики. Так, в 1630 г. царь Михаил Федорович приказал нанимать в русскую службу солдат за границей: «наймовать ратных людей, добрых и верных, а францужан и иных папежские веры не наймовати» цит. по [332, с. 127]. Кроме того, русское правительство, несомненно, знало, что католические принцы и принцессы – как и православные – не меняют при браке свое вероисповедание, а иметь царицу-католичку и, тем более, великого князя-наследника престола – католика, русские не хотели. Это нежелание российских государей родниться с католическими династиями Европы сохранялось до 1917 г.! Начиная с имп. Петра I, женившегося на лютеранке Катерине Рабе (по другим источникам – Марте Скавронской), русские великие князья и княжны вступали в браки с лютеранскими владетельными Домами много десятков раз; а за католических принцев вышли замуж всего две наследницы русского престола: Александра Павловна и Мария Николаевна.
«Датский принц Вальдемар» – так обычно называется этот молодой член датской королевской семьи в исторической литературе; однако тут требуется небольшое, но важное для понимания русских событий уточнение. Когда читаешь: «принц», как бы само собой разумеется, что он – наследник королевства. Фактически же «принц» Вальдемар не имел права наследовать датский трон в обозримых ситуациях, так как был всего лишь сыном датского короля Христиана IV «от морганатического брака с графиней Кристиной Мунк» [87, с. 245]; он и не стал королем после смерти отца. Таким образом, выдавая за него дочь, русский царь выигрывал очень мало в настоящем и в будущем (и знал, конечно, об этом), а расходы, вероятно, предполагал понести немалые на обзаведение хозяйства дочери при очень небогатом зяте. «Вальдемару обещали в приданое Суздальское и Ярославское княжества и свободу в деле религии. <…> Он получил самые формальные уверения в уважении к его вере, так же, как и обещание соорудить храм, в котором он мог бы свободно исполнять предписания протестантизма» [89, с. 37]. А также «требовалось, чтоб королевичу не было никакого принуждения в вере, чтобы он зависел от одного только царя, чтобы удел, назначенный ему тестем, был наследственным, чтобы государь дополнял ему содержание денежным пособием, если доходов с удела будет мало. Царь на все дал согласие, уступал на вечные времена зятю Суздаль и Ярославль и вдобавок обещал дочери приданаго 300 000 рублей» [113, кн.2, с. 52] – сумму колоссальную. Именно в XVII в. Ярославское княжество испытывало небывалый ранее торгово-экономический расцвет; отдав его зятю и его потомкам, царь Михаил Федорович, его потомки-преемники и русская казна лишились бы больших доходов. Несмотря на это, он, как кажется, в высшей степени желал этого брака (см. ниже) и употребил все усилия, какие мог, чтобы он совершился. Вероятно, он рассматривал его, как настоятельно необходимый России именно для прорыва международной изоляции. Царь столь сильно желал этого брака, что пренебрег отлично ему, конечно, известным пунктом исповеди из «Чина исповеданию православным царем и великим князем Московским», где духовник, в ряду прочих грехов, спрашивает исповедующегося и о таком: «не отдал ли замуж за иноверца свою сестру или дочь» [139, с. 49]. Этот «Чин» был напечатан в Москве приблизительно в 1630 г. Навряд ли значительную роль в создании такой «напористости» царя могли сыграть просьбы дочери, даже самые усиленные. Сам же королевич, вероятно, не сильно желал этого брака, это, вероятно, было известно царю, чем и объясняется столь интенсивное «заманивание». Возможно, не сильно желали этого брака и родители королевича.
Царь обещал, что «принуждения в вере королевичу не будет», тот прибыл со свитой (в ее состав были предусмотрительно включены его богословски образованные придворные) в Москву 21.01.1644 г. за невестой и «был принят с чрезвычайным почетом» [113, кн.2, с. 52]. Ему было оказано небывалое в Москве внимание. После совершенно исключительных жестов уважения со стороны царя, счастливого жениха, так сказать, ожидала полная неожиданность – предложение патр. Иосифа «верою соединиться», то есть принять православие, то есть креститься полным погружением, ибо «иначе законному браку быти никак нельзя». Вальдемар, крещеный, конечно, в младенчестве, как и все датчане – лютеране, обливанием (как это называли русские) и не желавший совершать над собой то, что русские называли крещением, а он считал перекрещиванием, решительно отказался и засобирался домой. Но его не отпустили и вынудили к длительной богословской дискуссии, в основном, по вопросу о действенности обливательного крещения. «Потеряв, наконец, терпение, он в мае пытался бежать, пробивая себе дорогу со шпагой в руке, но был только избит, убив одного стрельца. Христиан IV снарядил после этого два последовательных посольства, чтобы добиться совершения брака соответственно уговору или возвращения принца, но и они не имели лучшаго успеха. В дело вмешалась и Польша» [89, с. 38]. Несмотря на все это, прения (в которых обширную начитанность продемонстрировали сам королевич, его пастор Матвей Фельгабер и помогавшие ему литовцы: посол Гавриил Стемпковский и маршалок Адам Индрик Пенц) продолжились до смерти царя Михаила Федоровича 16.7.1645. (Интереснейшие подробности этого дела см. в [113, кн.2, с. 51–56]).
Прервавшая прения смерть 49-летняго царя была ускорена или даже вызвана огорчением от неудачи столь важного семейного и политического дела, ради успеха которого он, вызывая неудовольствие Дании и, вероятно, недоброжелательное внимание всей Европы, так долго задерживал просившегося домой королевича. Горе царя Михаила Федоровича было велико и непритворно; это подтверждается косвенно и тем фактом, что через месяц после его смерти умерла (18.8.) и его жена – мать царевны Ирины – царица Евдокия Лукьяновна (Стрешнева). Многочисленные, вероятно, русские противники предполагаемого брака царевны с еретиком – обливанцем, понимали смерть царя и царицы, как трагедию и указание свыше. Так, в «Повести о кончине царя Михаила Федоровича» ее автор писал: «Тот окаянный королевич жив и здоров остался и никакой тщеты не сотворилось ему, а нам, православным христианом, не благо явилось – царя и царицы лишились. Точно по смерть самодержца и самодержици приходил окаянный»; цит. по [63, ч. 3, с. 139]. У этого брака были и влиятельные сторонники, среди них даже и «предполагавшие избрать Вальдемара новым царем» [139, с. 108–109], что странно при здоровом молодом царевиче Алексее Михайловиче. Некоторые из них отправились в ссылку.
В богословско-историческом споре стороны остались при своих убеждениях; русские не успели использовать наиболее убедительные аргументы, которые слишком поздно подготовил самый, вероятно, всесторонне начитанный богослов из православных участников дискуссии – Исаакий, строитель Костромской Геннадиевой пустыни, родом киевлянин. Не помогло и обязательство принца Вальдемара крестить будущих детей (своих и царевны Ирины) по православному обычаю, то есть полным троекратным погружением, – немалая уступка. Не убедил русских и приведенный им неотразимый, казалось бы, пример царевны Елены, отданной ее отцом – царем Иваном III – замуж за Польско-Литовского короля Александра. То было до Смуты, а в 1645 г., после патриаршества Филарета, отношение русских к «обливанцам» и «обливанию» (то есть ко всем западным исповеданиям) стало совершенно нетерпимым. Русские не уступили ни в чем, и, сразу же после 40-дневнаго траурного перерыва во всех делах, воцарившийся 16-летний сын царя Михаила Алексей отпустил датчан восвояси с богатыми подарками. Быстрота отпуска и богатство подарков были, с одной стороны, жестами извинения за не вполне «европейское» поведение русского правительства в деле сватовства и демонстрировали намерение молодого царя сообразоваться с общепринятыми нормами ведения межгосударственных дел. С другой стороны, юный царь, вероятно, не очень-то и хотел впустить в царскую семью «лютора-обливанца», да еще столь убежденного и квалифицированного защитника своей «ереси»; вероятно, он решил поскорее отпустить принца Вальдемара восвояси не без совета со своим духовником – протопопом Благовещенского собора Стефаном Вонифатьевым. Вероятно, крещения принца в православную веру очень желала и сама царевна Ирина Михайловна, всю свою жизнь остававшаяся самой набожной в царской семье молитвенницей, ставшая крестной матерью своих племянников и племянниц, в том числе царевичей (затем царей) Федора и Петра Алексеевичей, сторонница старого обряда и защитница Морозовой и Аввакума. Она, конечно, категорически не хотела стать женой обливанца, то есть, по представлению русских того времени, попросту некрещеного.
Алексей Михайлович – необычайно образованный для своего возраста монарх – внимательно наблюдал за ходом прений с лютеранами, и неудача этих прений, столь важных для России и для него лично (при том, что он, как и многие его подданные, был уверен в правоте русских в этом споре по существу дела), показала ему (как, вероятно, показывало и многое другое в окружающей его действительности): Россия должна учиться и должна начать учиться немедленно. Сам Алексей Михайлович, воспитанный под руководством боярина Б. Морозова (одного из удачнейших в России промышленников и богатейших хозяев; к концу его жизни его ежегодный доход превосходил 100 000 р.), ознакомленный им (в том числе и с помощью западных гравюр, что было новым методом обучения) с жизнью Европы и даже нашивавший «немецкий» костюм, понимал важность хозяйственного и технического прогресса, любил и умел работать и учиться, уважал и «ценил» (и буквально ценил, что выражалось в очень больших цифрах годового жалованья) знающих и работоспособных людей, в том числе иностранцев-иноверцев. При этом царь был воспитан в православии и любви и уважении к Церкви и богослужению, которое прекрасно знал. О его моральных качествах, сыгравших, как я считаю, решающую роль в нижеописанных событиях, см. с. 107.
Для решения царя Алексея Михайловича без промедления организовать обучение своего духовенства (как настоящего, уже служащего, так и будущего, подрастающего), неуспех прений с королевичем-лютеранином стал «последней каплей». И до этого «от случая к случаю довольно ярко вскрывалась перед руководителями Руси после Смуты недостаточность ее просветительных средств и необходимость перевооружиться не только политически, военно, социально-экономически, но и культурно, духовно, школьно. <…> Вопиющая отсталость Москвы от взволнованного реформацией Запада и даже от гонимого в Польше русского православия состояла в полном отсутствии систематической общей и богословской школы. <…> Самые избранные и умные начетчики Москвы не в силах были разобраться в выдвинутых временем и неизбежных вопросах» [2, с. 106].
При молодом царе обновилось и омолодилось царское окружение, появились и новые идеи и замыслы, которые поддерживал царский духовник – протопоп Благовещенского собора Стефан Вонифатьев. Он и его друг, протопоп Казанского собора на Красной площади Иван Неронов (переведенный в Москву из Нижнего Новгорода в 1647 г. по инициативе Стефана и боярина Ф. М. Ртищева), поддержали (в их совещаниях участвовал и патриарх) мысль молодого царя (вероятно, родившуюся под впечатлением, произведенным на него учеными советниками принца Вальдемара, всем неудачным диспутом вообще и его затянутостью – полтора года! – в частности) вызвать в Москву лучших проповедников-протопопов из провинциальных русских городов. Можно думать, что с другой стороны это был 1-й шаг в осуществлении грандиозной программы всей жизни царя Алексея Михайловича – создать всеправославное царство с центром в Москве; если так, то эта программа, следовательно, уже тогда, в самом начале его царствования, была осознана, или, скорее, лишь интуитивно прочувствована и им, и, что очень важно, его советниками – Ртищевым, Нероновым и Вонифатьевым. Последующими шагами, для совершения которых был необходим этот 1-й, вероятно, должны были стать: 2) вызов в Москву большого количества высококвалифицированных переводчиков с греческого, 3) ускорение и завершение в Москве под наблюдением собравшихся туда лучших духовных лиц России и при помощи переводчиков правки устава богослужения и богослужебных книг, 4) тиражирование выправленных текстов и замена ими (по всей России, начиная с Москвы) старых, невыправленных, 5) единообразие и благочиние богослужения, 6) заведение в Москве школы и 7) распространение всего этого (через школу) на провинцию. Царь Алексей Михайлович, чувствуя необходимость Москве учиться, сделал 1-ю попытку найти хороших учителей – своих же великороссов – протопопов; несогласия с ними заставят впоследствии его же совершить 2-ю – учиться у малороссов, 3-ю – у греков, а затем его разочаровавшегося в православном духовенстве сына – 4-ю – у немцев. Собирание в Москве лучших духовных сил России было, с третьей стороны, продолжением деятельности Неронова по обновлению и улучшению приходской жизни и богослужения. Эту деятельность он самоотверженно вел уже давно, и, вероятно, это собирание было им и Стефаном подсказано царю. С другой стороны, самые ревностные и тщательные в богослужении провинциальные священники, вероятно, испытывали в своих городах немало огорчений от нерадивой и неблагоговейной паствы, а иногда и от местных властей (достоверно это известно о прот. Аввакуме из его «Жития»). Вероятно, они были рады перебраться, по указу благочестивого царя, в благочестивую Москву.
Были вызваны в Москву протопопы: Аввакум из Юрьевца (под Нижним Новгородом), Лазарь из Романова-Борисоглебска (под Костромой), Даниил из Костромы, Лонгин из Мурома; с ними сблизился и архимандрит Никон, задержанный в Москве волей царя. Эти влиятельные духовные лица и Неронов, связанные дружбой и общностью идеалов и стремлений, называются обычно в исторической литературе «кружком боголюбцев»; их деятельность стала ориентиром для широкого движения среди русской церковной иерархии. Они продолжили дело нижегородских священников, которые, стремясь к очищению Русской Церкви от застарелых пороков и недостатков, подали (во главе с Нероновым) в 1636 г. «память» об этих недостатках патр. Иоасафу и просили его принять срочные меры для поднятия благочестия в России. В частности, запретить многогласие (одновременное пение и чтение в церкви разных текстов для ускорения утомительно длинного богослужения, которое при таком пении и чтении становилось коротким, но неразборчивым и непонятным), о чем в их «памяти» говорилось: «говорят голосов в пять-шесть и более, со всем небрежением, поскору», и принять меры к улучшению нравов духовенства и народа. С тех пор положение с многогласием улучшилось (пели и читали только в 2–3 голоса), но оставалось все же неудовлетворительным; прочие вопиющие церковные проблемы беспокоили царя Алексея Михайловича, его духовника и их друзей – протопопов по-прежнему, как и лучших духовных лиц во многих городах России. Собравшиеся в Москве боголюбцы, от всей души стремившиеся очистить Русскую Церковь от гибельных для Нее и народа пороков, имели (при сочувствующем им молодом и деятельном царе) для выполнения своей программы больше возможностей, чем кто-либо иной в другие эпохи русской истории; имели они и достаточное количество последователей по всей России. (О пороках и недостатках русской церковной жизни, к середине XVII в. уже застарелых, см. [75, с. 240–256]). «В самой констатации непорядков в Церкви не было ничего нового; <…> новое заключалось в источнике этого движения – низовая самоорганизация священников» [136, с. 109]. Действительно, впервые не епископы и не игумены, а простые белые священники – содружество боголюбцев – организовали и начали широкое движение за возрождение христианских жизненных норм в России. Они ни в коем случае не стремились к каким-либо социальным или политическим переменам; напротив, «боголюбцами при всем их новаторстве двигала именно идея теократического государства святой Руси, которая была неотделима от веры в руководящее положение церковного, религиозного начала в государстве» [136, с. 133]. Зеньковский писал: «Они (боголюбцы) осмысливали церковь как соединение всего духовенства и мирян под благословением Христа, смотрели на нее, как на работу, как на общее молитвенное стремление к правде и Богу. Они хотели торжества веры в сердцах русских людей и этим надеялись привести в жизнь свой теократический идеал государства, руководимого церковью» – цит. по [136, с. 164]. (Т. е. их цели были, по мнению Зеньковского, очень близки, как будет видно из нижеизложенного, к программе патр. Никона). «Основная цель их – подчинить русскую жизнь строгим религиозно-нравственным требованиям путем царских указов, проповеди и реформы богослужения. Под их влиянием развилось законодательство царя Алексея против народных празднеств, игрищ и скоморошества как остатков языческой старины, опасных для нравственности и религии» [189, с. 118].
Они влияли на подбор кандидатов для замещения игуменских и епископских вакансий и приняли участие в книгоиздательской работе в Москве. Печатный Двор был взят в ведение царя, и патриарх не управлял изданием книг; он никак не влиял и на школьное дело, и даже на составление в 1649 г. «Уложения», ограничившего экономическую, административную и судебную власть всего духовенства, в том числе его самого. Враг и критик старообрядчества и старообрядцев, митр. Сибирский и Тобольский Игнатий писал в 1696 г.: «Святейший патриарх московский Иосиф, муж престарелый, все оно исправление книг возложи на совет вышепомянутых протопопов и попов и ничтоже о сем печашеся, вверишася убо ему…»; цит. по [60, с. 17].
Необходимо отметить, что движение среди духовенства и мiрян за поднятие благочестия и исправление нравов в России, возглавленное Нероновым и боголюбцами, охватило, в основном, север России, Поволжье и Заволжье, то есть территории, ставшие позже питательной средой старообрядчества. Это, конечно, не случайно, и обнаруживает преемственность этих духовных движений. Именно области, обнаружившие наибольшее усердие в деле литургического и нравственного возрождения Церкви и народа в русле русской церковной традиции, сильнее других воспротивились несколько лет спустя кровавым анти-русским «Никоновым» реформам с их катастрофическими последствиями.
При патр. Иосифе было напечатано 92 книги – больше, чем при любом его предшественнике, в том числе многие впервые. При нем были напечатаны первые русские полемические (против латинян, кальвинистов и лютеран) книги, первая русская грамматика, Кормчая, несколько святоотеческих книг. Большое значение для последующих событий имело издание «Кирилловой книги» (1644) и «Книги о вере» (1648), на которые часто ссылались впоследствии старообрядцы в полемике с апологетами господствующей «Великороссийской» Церкви. Эти полемические (против латинян) сборники были составлены, в основном, из статей малороссийских писателей начала XVII в. и сыграли немалую роль в создании у многих старообрядческих авторов представления о Римско-католической Церкви, как источнике всякого зла в христианстве, учительнице и идеале Никона, ориентире его реформ, а о Папе – как об антихристе или предтече антихриста. В Кирилловой Книге киевлянин Стефан Зизаний предостерегал читателей, что отступление от Христа, подобное уклонению в латинство или в унию, грозит России в приближающемся 1666 г. С самого начала раскола старообрядцы понимали это предостережение как пророчество. Так, в 1654 или 1655 гг. в послании своему духовному отцу – Иоанну Неронову – боярин Андрей Плещеев «видит в “новшествах” исполнение пророчества “Книги о вере” об отпадении церкви к Римскому костелу, чего он ожидает в 1666 году» [133, с. 207]. После собора 1666–1667 гг. это предостережение читалось, переписывалось и перепечатывалось старообрядцами, как исполнившееся пророчество.
Необходимо в связи с этим заметить, что прямо и непосредственно Римско-католическая Церковь никак не участвовала в русской церковной реформе, так как старый и новый русские обряды были Ей равно чужими, а различие между ними было, на Ее взгляд, вероятно, ничтожно малым, незначительным и даже не совсем Ей (как, например, Ее во всех отношениях лучшему и доброжелательнейшему по отношению к России представителю тех времен – Ю. Крижаничу, даже лично знакомому в сибирской ссылке с Аввакумом и Лазарем) понятным, и полностью невиновна в происках, приписанных Ей авторами-старообрядцами. (Отмечу здесь книгу, пропагандирующую прямо противоположную точку зрения – [161]). И все же доля правды в их обвинениях есть, а именно: сама идея допустимости, и даже более того, нормальности изменения, развития богослужебных обрядов – естественна, очевидна для католиков любых сана, должности, образованности и эпохи; и она совершенно неприемлема для русских XVI–XVII вв., которые представляли себе «правильные» (то есть свои) обряды, как данные и полученные раз и навсегда, и потому безусловно сохраненные и сохраняемые. Греки же в этом отношении занимали позицию среднюю. Противоположность мнений католиков и русских в этом вопросе, ставшем в середине XVII в. жизненно-важным, русские знали или интуитивно чувствовали хотя бы потому, что они знали о продолжающихся в католическом мiре «вселенских» соборах, имевших, естественно, власть изменить любой обряд. Знали они и о сильном влиянии вероучения Римско-католической Церкви на греческих иерархов во многих вопросах, следовательно, могли подозревать таковое и в этом.
С другой стороны, русские старообрядцы должны быть благодарны Римско-католической Церкви за Ее, в общем, объективное и даже благожелательное к ним отношение. (Так, больше половины (по авторитетному мнению Н. Ю. Бубнова; я с ним согласен) всех имеющихся у старообрядцев в конце ХХ в. богослужебных и четьих книг напечатаны в униатских западно-русских монастырях – Супрасльском, Почаевском, Виленском и др. – в конце XVIII в., конечно, с разрешения местных униатских епископов и властей базилианского ордена. Этих книг не только было издано много (и названий, и экземпляров), но они и превосходного качества, лучше, чем напечатанные старообрядцами где-либо и когда-либо еще – и по точности воспроизведения до-никоновского текста, и по всем типографским показателям, в том числе и по прочности переплета. Поэтому и их сохранность высока; благодаря отличной сохранности, их процент среди наличных старообрядческих книг в конце ХХ в. еще больше). Благодарность эта, однако, ни разу, насколько мне известно, не была как-либо выражена. Чтобы читатель не подумал, что римско-католическая Церковь как-то особенно симпатизировала старообрядчеству, я отмечу, что в униатских типографиях в то время печатались и православные (в смысле: синодальные), и даже кальвинистские книги – то есть все те, за которые исправно платили заказчики; но, конечно, все с разрешения, хотя бы формального, униатского епархиального начальства.
Я написал, что униаты печатали старообрядческие книги; это следует подтвердить: «Расцвет книгопечатания для староверов наступил во второй половине XVIII в. Среди крупнейших издателей книг для старообрядцев были типографии Виленского Свято-Троицкого и Супрасльского Благовещенского монастырей, Гродненская королевская типография. <…> Считается, что в Гродно было напечатано <…> около 50 изданий для старообрядцев. <…> С 1778 по 1809 г. в Вильно было издано более 60 кириллических книг, из них только девять униатских, остальные – старообрядческие. <…> В Национальной Библиотеке Беларуси хранится 57 кириллических изданий (102 экз.), напечатанных в типографии Супрасльского Благовещенского базилианского монастыря. <…Эта> типография начала издавать со второй половины XVIII в. старообрядческие книги. <…> После 1772 г. в Супрасле практически не выпускалось никакой иной литературы, кроме старообрядческой. <…> Всего же в Супрасльской Благовещенской типографии было напечатано 72 книги для старообрядцев <в смысле: 72 наименования>» [164, с. 119–124]. Служба всем российским Святым с похвальным им Словом была напечатана в Кракове. Базилианские, то есть устава свт. Василия Великого, монастыри – униатские.