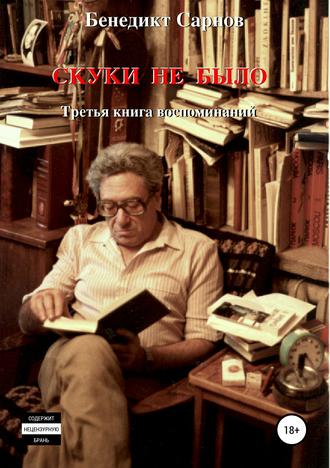
Полная версия
Скуки не было
– Некому заказать статью! Все писатели отказываются с нами сотрудничать!
Кто отказывался, а кого Кочетов прямо и откровенно распорядился не пускать на порог.
Эренбург для Кочетова был – враг номер один. И любая его статья, даже самая невинная (хотя невинных у него не было), а тем более такая, как эта его статья о стихах Бориса Слуцкого, на страницах тогдашней «Литгазеты» могла появиться только чудом.
Она и появилась чудом.
Несколько сотрудников редакции, воспользовавшись отсутствием шефа (тот был то ли в отпуске, то ли в какой-то заграничной поездке), обратились к Эренбургу с просьбой «дать им что-нибудь». А тот, воспользовавшись этим предложением, дал им статью о Слуцком.
Вернувшись к исполнению обязанностей и прочитав эренбурговскую статью, Кочетов пришел в ярость и тотчас же дал команду ее дезавуировать. Так и появился на страницах газеты «читательский отклик» пресловутого «учителя физики».
Свое дело, однако, статья Эренбурга уже сделала. После нее загнать Слуцкого обратно в подполье было уже невозможно. (Хотя печатали его по-прежему туго).
Для меня (мне-то что, главное – для Натальи Владимировны) эта история прошла без последствий (хотя она, – пуганая-перепуганая – на первых порах этих последствий ужасно боялась, и – по тогдашним нравам не без оснований: могли и полоснуть).
А о том, как сложилась дальнейшая судьба этого его стихотворения и о своем отношении к нему Борис – спустя годы – рассказал в короткой мемуарной заметке, озаглавленной подчеркнуто сухо, по-деловому, без сантиметов: «К истории моих стихотворений».
Начну с «ЛОШАДЕЙ В ОКЕАНЕ».
Написаны в 1951 (?) году летом в большую жару. Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка… Комната была жаркая, а на кровати лежал матрас со стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно…
Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Нового времени», откуда обычно черпал вдохновение.
Я начал писать с самого начала со строк: «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко» – и очень скоро (а в те годы я писал еще очень медленно) написал все. Правил после мало.
Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку.
Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор – самое у меня известное.
Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне (в Париже, в 1965-м), что он эти стихи заприметил:
– Но рыжие и гнедые – разные масти…
Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил…
Напечатал «Лошадей» Сарнов в «Пионере» (в 1956 году, наверное) как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда веселило моих знакомых. Вскоре Вадим Соколов и Атаров (последний с большими идеологическими сомнениями) перепечатали «Лошадей» в «Москве», и потом их перепечатывали десятки раз.
Я знаю четыре польских перевода, несколько итальянских. На «Лошадей» написано несколько музык. Говорят, нищие пели их в электричках.
На вечерах первые строки иногда встречались хохотком публики, медленно привыкавшей к нешуточному повороту дела.
Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха – сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха стихотворения у квалифицированного читателя.
«Лошади» – самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение.
Автобиографическая заметка эта (как и вся проза Бориса) пылилась в одном из дальних ящиков его письменного стола: публиковать свою прозу при жизни он не пытался, понимая всю безнадежность таких намерений, даже если бы они у него и были. Но у него их не было.
Впервые эти его записки увидели свет в 1991 году, в тоненькой книжечке-брошюрке библиотеки «Огонька». А процитированную заметку про «Лошадей в океане» я прочел совсем недавно, в уже более плотном его прозаическом сборнике (О других и о себе. Москва. «Вагриус». 2005).
Не скрою, читать ее мне было приятно: ведь это был как бы личный привет мне от Бориса. Привет – ОТТУДА, С ТОГО БЕРЕГА.
Но тщеславиться этой моей заслугой особых оснований вроде не было. Стоило ли гордиться тем, что я – пусть даже первый – опубликовал стихотворение, которое сам автор, судя по этим его пренебрежительным эпитетам («сентиментальное, небрежное»), ценил не больно высоко.
Но в другой раз об этом же стихотворении он высказался иначе:
Про меня вспоминают и сразу же – про лошадей,рыжих, тонущих в океане.Ничего не осталось – ни строк, ни идей,только лошади, тонущие в океане.Я их выдумал летом, в большую жару:масть, судьбу и безвинное горе.Но они переплыли и выдумку, и игруи приплыли в синее море.Мне поэтому кажется иногда:я плыву рядом с ними, волну рассекаю,я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,лошадиная и людская.И покуда плывут – вместе с ними и я на плаву!Для забвения нету причины,но мгновения лишнего не проживу,когда канут в пучину.Чему же верить: прозаической (в сущности, дневниковой) заметке? Или стихотворению?
Наверно, в этом случае, – как и во всех других, когда возникает такая альтернатива, – стоит прислушаться к совету, который Пушкин однажды дал Вяземскому.
Тот сокрушался, что погибли дневниковые записки Байрона.
Пушкин ему отвечал:
Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов…
Верить, стало быть, надо стихам.
Если так, гордиться тем, что именно мне удалось – первому – напечатать стихотворение Слуцкого «Лошади в океане», определенно стоило.
Он комиссаром был рожден
Узнав, что я поступил на работу в «Пионер», Слуцкий взял на себя миссию непосредственного моего куратора.
Курировал он меня так.
Утром в моей редакционной комнате раздавался телефонный звонок и начальственный голос Слуцкого произносил – жестко, раздельно, словно обладатель этого голоса знал, что говорит с не слишком понятливым человеком, которому даже самую простую и доступную информацию приходится старательно и настойчиво втемяшивать в голову:
– Приехал Стель-мах…
Я довольно смутно представлял себе, кто такой Стельмах, зачем и откуда он приехал и что мне с ним надлежит делать. И Слуцкий терпеливо втолковывал мне, что я во что бы то ни стало должен связаться с этим украинским поэтом, выпросить у него для «Пионера» несколько стихотворений и заказать переводы с украинского на русский – лучше всего Льву Озерову, телефон которого мне тут же сообщался.
В другой раз он сообщал мне, что по его указанию ко мне придет только что вернувшийся из эмиграции старый поэт Антонин Ладинский, и я непременно должен опубликовать какие-нибудь его стихи или прозу.
Во всем этом проявлялась, конечно, и необыкновенная доброта Бориса, постоянное его желание помогать людям. Все равно, кому – Ладинскому ли, который в такой помощи очень нуждался, или Стельмаху, который не нуждался в ней совсем. Но главным все же тут был именно государственный интерес – причем именно тот, высший, истинный государственный интерес, который специально назначенные для этой цели чиновники блюдут слабо, нерадиво, а то и вовсе неправильно, и только он один знает, в чем этот интерес состоит и как именно его надлежит блюсти.
Об этом «комиссарстве» Бориса ходили анекдоты.
Вот – один из них. Отнюдь не выдуманный.
В Союзе писателей шло заседание бюро творческого объединения поэтов. Разбирались разные кляузы, жалобы, просьбы. Все шло как обычно. Вполне обычной была и та жалоба, о которой я хочу рассказать. Она исходила от одного провинциального поэта. Поэт этот был – инвалид войны, тяжко больной человек, прикованный к постели, почти ослепший после тяжелого черепно-мозгового ранения. В общем, что-то вроде нового Николая Островского. Восемь лет тому назад он послал в издательство "Советский писатель" сборник своих лирических стихов. Рукопись была одобрена и принята к печати. Автору было обещано, что на следующий год она будет включена в план выпуска. Но прошел год, за ним второй, третий, а рукопись несчастного поэта так и лежала без движения. И никаких шансов увидеть свет у нее, кажется, уже не было.
Зачитав эту жалобу, председательствующий предоставил слово заведующему редакцией поэзии издательства "Советский писатель", потребовав, чтобы тот дал объяснение этому вопиющему факту.
Заведующий не отрицал, что все изложенное в письме – чистая правда. Но книга слабая. В ней есть несколько приличных стихотворений, редакция надеялась, что автор дотянет остальные до их уровня. Но этого, к сожалению, не произошло. Издать книгу в том виде, в каком она сложилась, не представляется возможным.
Начались прения. Все выступавшие выражали сочувствие обманувшемуся в своих ожиданиях поэту. Но в то же время признавали серьезными и резоны работников издательства. Обсуждение, похоже, зашло в тупик.
И тут слово попросил Слуцкий. И произнес такую речь.
– У нас только среди членов бюро по меньшей мере десяток поэтов фронтового поколения, – сказал он. – Неужели мы не протянем руку помощи нашему товарищу, попавшему в беду? Чего же стоит тогда наше фронтовое братство!.. Вот мое предложение. Пусть каждый из нас, поэтов-фронтовиков, напишет в эту книгу по стихотворению. Давайте спасем эту книгу нашими общими усилиями, как мы, бывало, выносили из сражения на своих руках раненого товарища!
Слушая эту замечательную речь, я вспомнил давнишний рассказ Эмки Манделя (Н. Коржавина). Дело было в самом начале 60-х. Эмка тогда только-только начал печатать свои стихи в периодике. До первой (в сущности, единственной) его книжки было еще далеко. Но времена были уже либеральные, разные влиятельные доброжелатели ему покровительствовали, и однажды он получил приглашение прийти на заседание редколлегии “Дня поэзии” с тем, чтобы предложить этому альманаху какие-нибудь свои стихи.
Он пошел. И вернулся оттуда совершенно потрясенный.
В отличие от него, я уже слегка притерпелся к атмосфере тогдашней нашей литературной жизни, и поэтому в причинах его потрясения разобрался не сразу.
– Ты можешь толком рассказать мне, что там тебя так поразило? – спросил я.
– Понимаешь, – растерянно сказал он, – там выступил Такой-то (он назвал фамилию известного поэта) и сказал, что в соавторстве с Таким-то (он назвал фамилию другого, тоже известного поэта) он сейчас работает, – точнее, они вместе, вдвоем работают – над циклом лирических стихов.
– Вот мудак, – сказал я.
– Да нет! Не в этом дело! – раздраженно отреагировал Эмка.
– А в чем же?
– Понимаешь, – потрясенно сказал он. – Никто не улыбнулся!
Но к предложению Бориса, чтобы каждый член бюро секции поэтов написал по стихотворению в неудавшуюся книгу своего товарища-фронтовика, он отнесся иначе. Тоже, конечно, с юмором. Но – без удивления. Ведь это был Слуцкий, сатирический, но в то же время и любовный портрет которого он сам незадолго до того запечатлел в той знаменитой своей своей эпиграмме.
В честь труда и во имя свободы
Борис, конечно, знал, что над его «комиссарством» посмеиваются. Но это ни в малой степени его не смущало. И от этой своей жизненной позиции он не только не отрекался. Он на ней настаивал:
Комиссар приезжает во Франкфурт ам Майн, —Молодой парижанин, пустой человек.– Отпирай! Отворяй! Отмыкай! Вынимай!Собирай и вноси! Восемнадцатый век!– Восемнадцатый век, – говорит комиссар, —Это время свободы! Эпоха труда!То, что кончились сроки прелатов и бар —Ваши лысые души поймут ли когда?Нет, не кончился вовсе, не вышел тот срок,И с лихвою свое комиссар получил,И ползет из земли осторожный ростокПод забором,где били его палачи.Этот опыт печальный мы очень учлиВ январе сорок пятого года,Когда Франкфурт ам Одер за душу тряслиВ честь труда и во имя свободы.Нельзя сказать, чтобы комиссар восемнадцатого века – "молодой парижанин, пустой человек" – представлял собой некий идеальный образ. По правде говоря, возникает даже мысль, что "с лихвою свое комиссар получил" по заслугам, что палачи били его за дело (как, в общем-то, за дело был расстрелян Опанасом в поэме Багрицкого и наш комиссар Коган, смущавший мужиков "большевицким разговором").
Но стихотворение называется не «Комиссар», а – «Комиссары». И смысл этого названия в том, что свою комиссарскую должность автор, – комиссар двадцатого века – готов взвалить на себя целиком – не только со всем связанным с этой должностью риском, но и со всеми ее моральными издержками. Несмотря на явную непривлекательность описанных поэтом комиссарских трудов ("Отпирай! Отворяй! Отмыкай! Вынимай!"), автор все-таки верит, что действует этот его комиссар "в честь труда и во имя свободы".
Слуцкий – не только в этом стихотворении, но и в нем тоже – предстает перед нами как субъект истории. Он ощущает себя одним из тех, кто делает историю, творит ее. И именно в этом (а не в том, что он просто «посетил» этот мир в его минуты роковые) состоит главная его жизненная удача. Не гостем, а хозяином был он на этом великом историческом пиршестве:
Я роздал земли графскиекрестьянам южной Венгрии.Я казематы разбивал.Голодных я кормил.Величье цели вызваловеликую энергию.Я был внутри энергии,ее частицей был.Не винтиками были мы.Мы были – электронами.Как танки – слушали приказ,но самишли вперед.Замощенынаши путираздавленнымитронами.Но той щепыникто из насна памятьне берет.Стихи эти (в особенности строка: "Не винтиками были мы. Мы были – электронами") при первом чтении вызвали у меня неудержимое желание сочинить на них пародию. Что я тогда же и осуществил:
Я продразверстку у крестьянбрал строго по инструкции.Я сёла по миру пускал,я города кормил.Мы строили огромнуюжелезную конструкцию,Я был внутри конструкции,ее деталью был.Не винтиками были мы,нет, были мы шурупами,болтами были,гайкамии шайбами подчас.Наш путь был устлан трупами.Мы сами стали трупами.Но с этимне считаетсядавноникто из нас.Прочесть эту пародию Борису я не отважился. Но другим читал, и она, конечно, до него дошла. Это я сразу почувствовал. Он перестал мне звонить (а раньше звонил чуть ли не ежедневно). При встречах (которые были неизбежны, мы ведь были соседями) держался подчеркнуто холодно.
Продолжалось это довольно долго, несколько месяцев, чуть ли не полгода.
Потом как-то рассосалось.
Какое странное стихотворение ты написал
Эта моя пародия на Слуцкого была не первой и не единственной.
Были еще две, написанные, правда, уже не в одиночку, а втроем: вместе с двумя моими соавторами по пародийному цеху – Л. Лазаревым и Ст. Рассадиным.
Их я сейчас тоже тут приведу. Но сперва надо рассказать о том, как и почему мы стали пародистами.
Мы – все трое – работали в "Литературной газете", главным редактором которой был тогда Сергей Сергеевич Смирнов.
Сергея Сергеевича от всех других главных редакторов, с которыми нам приходилось сталкиваться, отличало одно качество, не изменявшее ему никогда: он был доступен. В его кабинет всегда можно было войти запросто, в любое время рабочего дня. (Даже если в этот момент он говорил по вертушке с секретарем ЦК: был однажды такой случай).
Каково же было наше изумление, когда в один прекрасный день, пытаясь, как обычно, толкнуть дверь редакторского кабинета, мы наткнулись на запрещающую реплику секретарши Милы:
– К нему нельзя.
– ???
– У него юмористы.
Вскоре про эту странную слабость главного редактора уже знали все сотрудники газеты.
Раз в неделю за длинным столом, предназначенным для заседаний редколлегии, поминутно остря и подтрунивая друг над другом, рассаживались самые знамениты юмористы столицы: Александр Раскин, Никита Богословский, Зиновий Паперный, Владлен Бахнов, Морис Слободской, Леонид Лиходеев… На столе стояли скромные яства: печенье, конфеты, чай, иногда и другие напитки – все это покупалось на личные средства главного редактора. Сам же главный редактор сидел не в своем редакторском кресле, а где-то сбоку припека и держался в высшей степени скромно. Пожалуй, даже подобострастно. Чувствовалось, что юмористы представляют в его глазах лучшую, достойнейшую часть человечества.
Пили чай (или что-нибудь другое), закусывали конфетами. И читали самые свежие, только что сочиненные фельетоны, пародии, эпиграммы. Когда кому-нибудь случалось прочесть что-нибудь особенно удачное, особенно смешное, лица юмористов каменели. Не дрогнув ни одним мускулом, кто-нибудь из них ронял:
– Смешно.
Иногда даже:
– Очень смешно.
Смеяться или хотя бы улыбаться удачным шуткам, очевидно, считалось у юмористов-профессионалов дурным тоном.
Сперва мы относились к этому увлечению нашего главного редактора снисходительно – как к простительной и сравнительно безвредной слабости. Но в какой-то момент оно стало нас раздражать. Нам казалось, что юмористам он уделяет непомерно много внимания и своего редакторского времени – в ущерб другим, гораздо более важным вопросам, с которыми нам к нему теперь бывало порой не пробиться. Ну, а кроме того, юмористическая страница, ставшая теперь в нашей газете постоянной (из нее, кстати, потом вырос "Клуб 12 стульев") далеко не всегда бывала удачной. И однажды один из нас, выступая на летучке, сославшись на известную шутку Утесова о каком-то джазе, сказал об очередном выпуске "клуба юмористов", что в Одессе, мол, так умеет каждый, только стесняется.
– Критиковать легко! – обиделся наш главный. – А вы попробуйте! Сочините! Хотел бы я посмотреть, что у вас получится!
И мы решили попробовать.
Оставшись однажды в редакции после рабочего дня, движимые стремлением доказать нашему главному свою правоту, мы сочинили две пародии. Через день – другой – еще две. И спустя неделю отважились прочитать их на очередном заседании "клуба юмористов".
Слегка волнуясь, мы прочли первую пародию… Потом вторую… Третью…
Юмористы сидели с каменными лицами.
Читая последнюю – пятую или шестую – мы уже не сомневались, что нас постиг полный провал. И вдруг – после довольно долгой, мучительной для нас паузы, кто-то из корифеев юмора произнес:
– Смешно.
И другой корифей так же невозмутимо подтвердил:
– Очень смешно.
Так юмористы приняли нас в свою компанию, и теперь нам не оставалось ничего другого, как всеми силами стараться поддерживать этот наш новый статус.
Пародия на Слуцкого была в числе тех пяти-шести, самых наших первых. Сочинена она была, как и другие, вошедшие в тот наш первый цикл, по традционной пародийной колодке – на сюжет знаменитой детской песенки «В лесу родилась елочка».
Вот она:
От елкии в ельнике мало толку.В гостинойей вовсе цена – пятак.Как надоиспользовать елку?Елкунадоиспользоватьтак.Быль. Ни замысла и ни вымысла.Низко кланяюсь топору.Родилась, а точнее – выросла,а еще точнее – все вынеслаелкав нестроевом бору.Наконец-то до дела дожила:в штабеляпо поленьямсложена…Всех потребностейудовлетворение,всех – еды и одёжи кроме!Дровяное отопление, паровое отопление.Это – в мире опятьпотепление,в мире – стало быть, в доме,Я сижу с квитанцией жакта.Мне тепло. Мне даже – жарко.Мне теперь ни валко, ни колко,а какого еще рожна!Человеку нужна не елка.Человеку палка нужна.Через несколько дней после появления ее на страницах «Литературной газеты» Борис, веселясь, сообщил мне:
– Вчера позвонила мне из Харькова мама. Она прочла ваши пародии в «Литературной газете».
– Да? – насторожился я. – И что же она о них сказала?
– Боря, – сказала она. – Какое странное стихотворение ты написал!
По довольному выражению его лица было видно, что эта мамина реакция доставила ему большое удовольствие.
Как известно, особенно легко и приятно пародировать тех авторов, стилевая манера которых отличается особой, резкой выразительностью. Слуцкий этим свойством обладал в самой высокой степени. И поэтому вскоре мы сочинили на него еще одну пародию. На сей раз, на сюжет басни дедушки Крылова «Квартет»:
В музшколе имени Августа БебеляНа улице Гегеля в городе Харькове,Кроме рояля, не было мебели,Тут обучались дети кухаркины.Не то, что Бетховен, простая гаммаБыла нам страшней Чемберлена-гада,Музыку мы отрицалиупрямо.Но в женотделе сказали:– Надо!И вот мы – квартет.Канифоль купили.Ноты добыли, изъяв излишки.И до утравчетверомдолбилиС ослиным упорствомтруд мартышкин.Нету у нас музыкального слуха.Нам медведь наступил на ухо.Но взяли мы высоту Парнас:Вся планетаслушаетнас!По правде сказать, и та, первая наша пародия была не вполне безобидна («Человеку нужна не ёлка, человеку палка нужна!»). А тут поводов для обид было вроде уже побольше («Нету у нас музыкального слуха, нам медведь наступил на ухо…»). Да и по самой сути своей, по тайному (не такому уж и тайному) своему смыслу не так далеко она ушла от той, из-за которой он чуть ли не перестал со мною здороваться. Но на нее, как и на первую нашу, он тоже не обиделся. А на ту, мою, обиделся смертельно.
Как видно, я там ненароком ткнул его в больное место. Туда, где уже был у него перелом, Или трещина. Или открытая, незаживающая рана.
Когда мы вернулись с войны
После войны из «комиссаров» он был разжалован.Это нашло отражение во многих его тогдашних стихах.Например, вот в этих:Когда мы вернулись с войны,я понял, что мы не нужны.Захлебываясь от ностальгии,от несовершенной вины,я понял: иные, другие,совсем не такие нужны.В «комиссары» теперь назначали людей совсем другого склада. Но он был комиссар не по назначению, не по должности, а – по призванию. По складу характера и души. И расстаться с этим своим комиссарством, сбросить его, как сбросил военную гимнастерку, сменив ее на штатский пиджак, – не смог:
Я мог бы руки долу опустить,я мог бы отдых пальцам дать корявым.Я мог бы возмутиться и спросить,за что меня и по какому праву…Но верен я строительной программе…И хотя, как я уже говорил, в этом его самозваном комиссарстве была и комическая сторона, тут надо сказать, что, сохраняя верность этой своей «строительной программе», кое-чего он, случалось, все-таки добивался. Оно было не бессмысленным, не совсем бесплодным, это добровольно взваленное им на себя комиссарство:
В течение многих лет каждое утро я прихожу в фонетический кабинет Союза писателей – узкую высокую комнату в доме на Поварской, которая тогда называлась улицей Воровского. От пола до потолка – стеллажи с плоскими коробками магнитофонных лент и грампластинок… Тарковский, Твардовский, Тушнова, Тычина… Каверин, Каменский, Катаев, Кириллов… Фадеев и Форш, Эренбург и Яшвили.
А дело было так. Как-то, работая еще в Музее Маяковского, я записывал чтение Бориса Слуцкого. Мы разговорились, и я стал жаловаться на то, что записи писательских голосов регулярно не делаются, а те, что делаются, часто теряются: потеряли, например, запись Багрицкого, размагнитили довольно много записей чтения Василия Каменского…
А Слуцкий трепачей не любил и в ответ на мои стенания сказал: «Изложите письменно».
И вот по требованию Слуцкого я написал о том, что происходит в области звукозаписи: ценные записи хранятся крайне небрежно, а новые, если и делаются, то – не те и не так, как нужно. Слуцкий дал ход этой бумаге, она очень долго разбиралась в различных инстанциях и комиссиях, и он ничего мне об этом не говорил…
Вдруг мне звонят: «По вашей докладной в Союзе писателей решено открыть отдел звукозаписи, фонотеку. Так что приходите. Когда придете?»
Какая фонотека? Как – приходить? Я даже не сразу сообразил, о чем речь, и начал было говорить, что это какое-то недоразумение… Потом вспомнил о разговоре со Слуцким, состоявшемся года полтора назад…
Так повернулась моя судьба.
(Лев Шилов. Голоса, зазвучавшие вновь. М. 2004, Стр. 84–85)А вот еще один пример этого его самозваного комиссарства.
Через несколько дней после того как в «Литгазете» было напечатаностихотворение Евтушенко «Бабий яр», в газете "Литература и жизнь", которую мы в своем кругу презрительно именовали «Лижи» (лижут, мол, задницу начальству), появилась грязная антисемитская статья известного тогда литературного проходимца Дмитрия Старикова. Проходимец этот был человек довольно начитанный (во всяком случае, в рядах его единомышленников таких эрудитов, как он, было немного) и он довольно хитроумно столкнул скандальное стихотворение Евтушенко с одноименным (1944 года) стихотворением Эренбурга. Вот Эренбург, дескать, в отличие от Евтушенко, в том давнем своем стихотворении проявил себя как настоящий, подлинный интернационалист.

