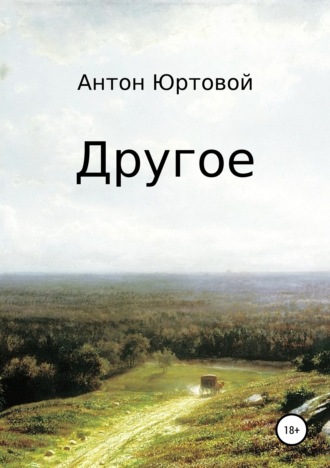 полная версия
полная версияДругое. Сборник
Раздвоенность такого рода будто кем-нибудь придумывается нарочно, чтобы запутывать уже и без того запутанное и разлаженное.
Проснувшись намного позже намеченного, хотя всё же и затемно, Алекс вынужден был признать, что его вечерние предчувствия начинают сбываться, и неблагоприятные, скомканные обстоятельства теперь, возможно, опять будут пригибать его.
Никита не разбудил его, и, значит, он серьёзно болен. Брать Никиту с собой рискованно. Слуга ещё с позавчерашнего вечера говорил ему о болях у себя в груди, об испарине и общем недомогании.
В поведении подневольного могла крыться некоторая хитроватость. Никита умел наперёд угадывать состояние барина исходя из тех ситуаций, когда, как и на этот раз, всё было ему хорошо понятно по происходившему. Барину лучше не ехать, отдохнуть, снять напряжение, а то и повернуть назад. Иногда такая уловка удавалась, что со стороны Алекса не вызывало никаких укоров или нареканий. Но теперь слуга в самом деле выглядел больным. Хворей он заполучил ещё до этой поездки, искупавшись в холодной протоке; сейчас они продолжали его преследовать и могли выражаться ещё заметнее ввиду его соучастия вместе с возницей в той избыточной дорожной суете, которая становилась неизбежной при необходимости подталкивать кибитку на выбоинах во время позавчерашнего ливня и – особенно при вызволении кучера с места, куда тот слетел с облучка.
На состоянии здоровья слуги, наверное, не могли не сказываться и такие вот запутанные нервные условия временного пребывания в чужом гнезде.
Возникавшие препятствия не могли, однако, повлиять на решимость поэта продолжать путешествие. Нет, если уж не ехать, то лучше – слуге. Даже несмотря на то, что и с возницей, если учитывать его позавчерашние ушибы, дело обстояло не совсем ладно. Он, господин, отправится в путь вопреки всему. Нельзя позволять подавленности всё разлаживать до основания.
Никите он позволил всего лишь поприсутствовать на дворе усадьбы при своём отъезде.
Короткие проводы не отличались от тех, что происходили здесь же в конце предыдущей ночи, если не считать среди собравшихся, кроме его слуги, ещё троих – старосты и Маруси с Настей, остававшихся стоять почти без движения и совершенно молча чуть в стороне и сзади от остальных. В темноте фигура Евтихия по-прежнему выглядела страдающей от болей и оскорблений и будто ждала обращения к себе провожаемого. Но с чем бы следовало к нему обратиться, когда всё – наспех, и к тому же – под явным присмотром самой хозяйки двора? По всей видимости, и девушкам, которым была во многом и даже в подробностях знакома свежайшая и очень важная тайна имения, также было резонным ожидать от гостя если и не впрямую связанных с нею вопросов, то хотя бы какого-нибудь касавшегося её внешнего знака внимания.
Опять же и им, сразу обеим, рассчитывать на это не приходилось, поскольку вторую, Настю Алекс раньше даже видеть не мог и так же не мог теперь знать того, она ли, державшая сейчас Марусю за руку и слегка склонившаяся ей на плечо, та самая, чуть не ставшая жертвой грязного домогательства Мэрта, а что до Маруси, то он действительно почти не прочь был к ней обратиться и только единственно за тем, чтобы разделить с нею её печаль об её Акиме, но – общая обстановка прощания по сути с чужим для здешних обитателей человеком и, в свою очередь, с ними, также чужими для него самого, к тому и в этом случае также не располагала.
Выслушав наставления барина не пренебрегать снадобьями и советами госпожи и дворни насчёт своего скорейшего выздоровления, слуга жестом руки испросил у Алекса соизволения отойти вдвоём немного в сторону. Когда они передвинулись, он сказал, указывая на фуру:
– Там всё уложено, как должно. Ещё оказалась книжка. Не помню, чтобы она была прежде. И чья – не знаю. Оставил для вашего благородия, на сиденье.
– Может, кто забыл, потерял?
– Справлялся об этом. Никто не в претензии. Даже сами барыня. Пропажи, говорят, не числятся. Сказал им, не оставить ли в усадьбе. Ответили, пусть, мол, там и лежит, где лежит.
– Ну хорошо. Будь здесь послушен.
– Извольте не беспокоиться. Да вот ещё…
– Говори.
– О сапогах…
– Что такое?
– Сапоги, что стояли в горнице… Снятые барином, сыном… Кровь на них… И на шпорах…
– Ты видел это сам?
– Как же. И все заметили, кто входил… Сами барыня…
Тяжёлое удушье, как и вчера, на поляне, вновь охватывало Алекса.
Его поразила смелость, с какою обращался к нему теперь Никита по обстоятельству, которое нельзя было не считать выходящим из ряда вон. «Замечал ли я такое в нём прежде?» – медленно и как-то нехотя раздумывал он, не вполне осознавая, следовало ли думать сейчас именно об этом. «Чёрт бы всё побрал!» – хотелось выговориться ему, однако надо было сдерживать себя.
– Так ты выздоравливай, не перечь… – только и сказал он Никите.
– Счастливой дороги, – совсем тихо и устало-сочувственно ответил ему слуга.
Выезжая в кибитке за ворота и заворачивая от них налево, где вдоль речки его сопровождала на прогулке Маруся, Алекс уже был уверен: он знает причину тревожности и беспокойства, одолевавших его с утра вчерашнего дня. Ведь он тоже проходил по горнице, несколько раз выбираясь из дома во двор по своим неотложным надобностям ещё до приезда Мэрта и после, когда тот, появившись под самую ночь, уже переодетый, в халате и в шлёпанцах, застал его в кабинете и они вместе отлучались из него сначала в помещение столовой, а затем на крыльцо и на веранду подле него, чтобы подышать прохладой, а также и во двор – ввиду тех же неотложных надобностей.
Сапоги со шпорами, снятые Мэртом, стояли на полу вблизи вешалки, у самого входа в горницу, совершенно видные, так как сюда доставал свет горевшей свечи от стены напротив. Гость не мог не обратить на них внимания, но, скорее, только проскользил по ним взглядом и не придал значения метам на них. Как не придал никакого значения и униформе синего цвета на вешалке, лишь едва заметным краем видневшейся над полом из под нависавшей сверху домашней занавески.
Сознание, возможно, зацепило пятна рыжеватого оттенка, увиденные на сапогах, уже подсохшими, но – только и всего.
Память не торопилась разобрать в них прежний, натуральный цвет, да она попросту и не была готова передвинуть зафиксированное на передний план; этому не способствовал тот особый характер общения с ещё не уличённым оборотнем, когда брало верх радостное возбуждение и стойко держалась удовлетворяющая взволнованность, вызывавшаяся ожиданием встречи и самой встречей.
Также гость мог видеть сапоги уже и без кровавых мет на них – в то время, когда кто-то, вероятнее всего, Мэртов слуга, поставил их на место, брав ненадолго, чтобы почистить щёткой или отмыть в воде. Таким образом, достоверность восприятия в той поре заметно суживалась; теперь же отстраниться от подозрений Алекс уже не мог, хотя и не очень того желал. В конце концов, не следовало пренебрегать докладом своего слуги. Сказав это себе, одинокий пассажир фуры присовокупил к установленному ещё и то, что его уже вполне умышленно смогли обвести и с одеждой Мэрта: при отъезде тот сошёл во двор в широком дорожном плаще-накидке цивильного образца, неплотно облегавшем его фигуру, с рукавами и со шнурком, стянувшим надплечье у подбородка. Сзади, над спиной тайного служаки торчал бугорок капюшона, а его голова оставалась непокрытой, без форменной фуражки, которая сразу бы указывала на очевидное. И шпор на сапогах при расставании гость не заметил. Были они на месте или нет, сказать бы это он затруднился.
Мэрт, видимо, предусмотрел всё.
«Растяпа! Столько упустить! – с опозданием попенял себе Алекс за невнимательность и за беспечность, имея пока в виду ограниченное, лишь то, что оказалось ему уже известным – о злосчастных окровавленных сапогах и в целом о факте предательского подлога. – Ты, право, перестал годиться в дотошные наблюдатели, а в таком случае и – в литераторы!» – растравляясь, продолжал он упрекать себя,
Огорчение расползалось по телу, забираясь глубже вовнутрь. От чёрных мыслей некуда было деться. «Вот она, суть дворянского блеска, настоящее в ней – чудовищно…» – думал он, глядя в оконце впереди себя, где на облучке еле виден был силуэт наклонённого к коленям туловища кучера.
Оттуда слышался дробный глухой перестук конских копыт по мягкой от пыли земле, который тут же смешивался с легким тарахтением колёс и поскрипыванием фуры и с однообразными гроздьями тонких перезвонов поддужного колокольчика.
Усвоенные угрюмые впечатления не спешили загладиться и дать потеснить себя отрезвляющей рассудительностью. Алексу припоминалось, как много коварства узнавал он в своей среде за прожитые годы и что не кто иной, как он сам, что называется, имел честь быть равным себе подобным и также, как и они, ответственен за общие сословные пакости и ублюдства. Да и за его собственные – тоже.
Каковыми были, к примеру, судьбы хотя бы тех его крепостных, которых приходилось закладывать или продавать в связи с его сумасшедшими, сильно обескураживавшими его проигрышами? А разве не знает он о норовах управляющих захиревшими вконец его поместьями? Не те ли у них жесточайшие средства, какие использует староста Евтихий, надзирая за вверенными ему подданными и приструнивая их, дабы не переводился достаток у Екатерины Львовны, а в конечном счёте и достаток дворянского сословия в целом, стало быть, и непосредственно его, Алекса, что ни дальше, то всё более расшатываемый?
Ах, мысли, мысли, бедовые, безжалостные! Что им за выгода терзать человека, если он и без них угнетён и принижен? Подите прочь!
Давно проехали мост через речку, близ которого он расстался вчера с Марусей, продолжив прогулку без неё. Дальнейший путь пролегал в направлении, по которому сутками раньше унёсся жандармский отряд. Ещё до сих пор были видны следы его движения, только в малости обновлённые редкими гружёными повозками и копытами тащивших их лошадей и быков.
Как непосредственно оперирующему приёмами словесности, Алексу тут невозможно было отвлечься от факта оставления им того самого перекрёстка, откуда вчера он, не торопясь, прошёлся пешком к съездам от просёлка в сторону Неееевского, находя до момента обнаружения следов жандармского отряда хотя и неброское, но всё же весьма занимательное в окружающем, что как бы само собой опять и опять возвращало его к мыслям о Марусе, о её горе, уже будто саваном покрывавшем её будущее, возможно, самое ближайшее.
Перекрёсток он вправе был теперь считать неким отправным началом какого-то грозного, неизбежного и по-настоящему удручающего, мрачного события, связанного с его посещением усадьбы, и такое продолжение казалось ему почти очевидным, поскольку и по завершении им визита к Лемовскому в связи с необходимостью забрать недомогавшего слугу ехать ему этим же путём предстояло и в обратном направлении.
«Славная девушка», – почти вслух подумал Алекс, пытаясь хоть как-то отвлечься от событий, связанных со встречей с Мэртом.
Крепостная судьба Маруси трогала его, кажется, всё больше, непроизвольно вовлекая его в тот мир чувств и идей, где им, подхваченным азартом и стихией творчества, было суждено обязательно распространяться куда-то вдаль и вширь и до поры бесцельно бродить, созревать и искать повода снова вернуться в обыденную реальность; тут они, возможно, уместились бы в отдельное, проникновенное повествование о непорочной бедовой судьбе женщины, уже почти обречённой…
«А в самом ли деле всё, что касается Мэрта, – правда? – откуда-то неожиданно выплыл перед ним вопрос, как бы для того, чтобы только не останавливаться в размышлениях о столь нелепом пребывании в усадьбе помещицы. – Не вышло бы ошибки…»
Несмотря на очевидные улики, стоило посомневаться. На карту ведь ставилось отношение к одному из себе подобных, имеющему равные и притом немалые права. Здесь за главное бралось понятие сословной чести, и принятое заключение определённо могло вести к её утрате самим подозревающим. Ведь он выступал бы уже не только лично от себя, но и как глашатай сословной, то есть отнормированной справедливости – понятия, достаточно расхожего в дворянском сообществе.
Случись что не так, могло не поздоровиться в первую очередь заявителю, поторопившемуся указать на несоблюдение догмата и не предоставившему достаточных обоснований этому.
Утрату чести ввиду наговора обязательно отнесут уже на его счёт, а это бы означало полное отторжение от привычной среды, от круга устоявшихся в ней интересов и отправлений, а значит также и – привилегий, что зачастую смерти подобно и ею действительно должно было соизмеряться, поскольку обычаем честь полагалось отстаивать и не каким-то иным образом, а непременно с оружием в руках, в беспощадном, смертельном поединке. То есть – было уже не до тех шуток и легкомыслия, которыми он, как правило, обставлял свои прежние, не перетекавшие в непоправимое дуэли – в ранней своей юности…
Кто, в самом деле, мог бы привести в доказательство следы сумбурного передвижения отряда в сторону усадьбы и от неё, его ночного постоя на поляне, расправы над старостой? Зверские экзекуции подданных – едва ли не обыденное в крепостничестве. Как здесь должны строиться обвинения? И кто стал бы рассматривать их? Приезжие чины?
Расследование пойдёт явно к интересам господ. Крепостных могут просто ни о чём не спрашивать.
Постепенно Алекс приходил к мысли, что даже сведениям, переданным ему Никитой, он доверять вряд ли вправе. Кровь на сапогах? Так её там давно нет. То же и на шпорах. Шпорами нередко до крови обдирают бока лошадям, побуждая их к большей прыти, а тут как раз могло быть такое их применение. Легко ведь допустить, что Мэрту, чтобы размять затекавшие члены, захотелось на время пересесть из фуры в седло, согнав с него рядового служивого.
Нет, слуга явно преувеличивает, ему, наверное, импонировали негодование и пристрастные путаные перешёптывания дворни, её консолидированная обида за Настю…
Сомнений добавляла картина, в которой почти зримой ему представлялось позавчерашнее продвижение конного жандармского отряда по той части просёлочной дороги, где во время сильного дождя привелось очутиться его одинокой кибитке.
По времени то могло быть позже ненамного, и дорога ещё оставалась размокшей и скользкой. Это вряд ли веселило ехавших, конечно же, досталось и лошадям. Да, опять – о шпорах, о том же…
А, кроме прочего, продолжало быть неуяснённым то, кем, собственно, был Мэрт, в какой роли, заезжал он к себе в усадьбу. Как человек, целиком повелевавший отрядом, его командир? Или как сотрудник, подчинённый, упросивший командира ненадолго задержаться, чтобы повидаться с матушкой?
Сведения об этом замяты краткой задержкой Мэрта в усадьбе, загадочностью его отъезда…
Решив не поддаваться действию желчи от столь навязчивых и выпуклых реминисценций и соображений, поэт принялся за чтение книги.
Он взял её в руки ещё до того, как достаточно рассвело, и ждал, когда можно было бы ознакомиться с нею.
Первые солнечные лучи, упавшие на кроны деревьев и на травянистые прогалины по сторонам дороги, ещё долго не проникали вовнутрь кибитки, и читать пока было нельзя. Время тянулось медленно. Затем лучи хотя уже и обхватывали всё вокруг, но они с трудом проникали сквозь тусклое крошечное слюдяное оконце обращённой к востоку дверцы и ещё долго неуверенно обшаривали внутреннюю часть фуры.
Наполнение её светом запаздывало ещё и из-за менявшейся погоды. Солнце то появлялось, то закрывалось медленно надвигавшимися на него клочьями перевитых темнеющими сгустками и выдававших скорое похолодание серых облаков.
Остаточные полутени ушедшего времени свету наконец-то удалось рассеять и вытолкнуть. Стали видны ряды строчек и буквы на страницах.
Книга не имела привлекательного вида: истёртые и засаленные обложки из дешёвого тонкого и слоистого картона серовато-соломистого цвета без единой буквы или штриховки на них как снаружи, так и на сторонах внутри; на первом листе под лицевой обложкой – выходные сведения только из имени и фамилии автора и заглавие из трёх слов, под которыми стоял вялозовущий, но явно подобранный с бульвара цветок предложенной темы: «повествование о моей пустой и тягостной жизни и об излишестве её продолжения»; больше ничего.
Размером книжка была скорее тонкой, чем средней толщины; непронумерованные листы подшиты грубыми нитками к посконной ленте и вдобавок ещё подклеены к ней, а обе обложки снаружи, на изгибе соединяла наклеенная на их края полоса из тонкой дешёвой кожи с выделкой под светлобуроватый колер. Набрано всё, включая и текст, одной гарнитурой.
Никому бы не составило труда удостовериться в полном отсутствии вкуса у издателя, если бы о том шла речь. Стоило, конечно, усомниться и в наличии у книженции сколько-нибудь приличного тиража и легальности печатания.
Ни об её авторе, ни о названии державший теперь её в руках ничего не слышал и не знал.
Несколько подивившись крайне примитивному оформлению, поэт взялся медленно перелистывать страницы, точно испрашивая себя, надо ли вообще напрягать внимание, чтобы настроиться на чтение. Страницы, как ему казалось, пахли сырыми древесными стружками и забродившим мучным тестом; они были тусклыми и слежалыми, наподобие того, во что с годами могли превращаться листы в старых амбарных или вещевых книгах, – рыхлые, с преобладанием устылой, возникающей от времени желтоватости, в разводах подтёков и в бесчисленных грязных потёртостях на нижних, уже почти истрёпанных, углах страниц от прикосновений пальцами людей, видимо, имевших к ним частый доступ по своим или каким-то другим надобностям.
Ничего подобного и сразу же располагающего к унылости Алексу никогда раньше не доводилось иметь в пользовании.
Слегка обозрев издание, как предмет письменности, он сделал предположение, что, оно, вероятно, «не тянет» и содержательностью, – как лишённое стилистического или иного изящества.
Его, возможно, брал с собой в дорогу один из прежних пассажиров.
Брал, да не осилил чтением, постаравшись забыть о нём и просто, без сожаления, расстался с ним.
Дома сразу такое читать и не подумал бы, оставил нетронутым: если не набредёт по его поводу какой-нибудь искры в голове, то пусть оно и лежит себе до поры, сколько угодно.
Однако тут, в раздражении и монотонности дороги, чего-то другого поразмяться умом просто не находилось, и как бы в унисон такому очевидному обстоятельству возникало исходившее из его писательского да, собственно, и из его же читательского опыта соображение, что измаранные и затёртые кем-то страницы – это иногда не что иное как признание за ними достоинства. Пусть не литературного, а хотя бы касавшегося чего-то в быту, в обиходе, но всё же – достоинства.
«Сам я, распорядиться положить её сюда не мог; не забыл же я, в самом деле. – Алекс попытался найти объяснение, откуда книга взялась. – И Никита, с его назойливой старательностью, считает книгу чужой, то есть – не обнаруженной им ещё до поездки, когда он, как всегда, не допускал отъезда без тщательного осмотра средства передвижения. Нет, такого, чтобы я давал распоряжение, произойти не могло. Да это и не по мне. Я не приучен забирать с собою в дорогу подобные вещи, хотя бы мне даже и предназначенные и необходимые, но не вручённые как добрый памятный знак кем-либо из хорошо мне знакомых людей или не приобретённые покупкою».
«А не такой ли это жест, каким некогда удивил Радищев?» – пронеслось у него в голове. То был известный скандальный факт, когда, предвидя запрет на своё детище, сочинитель сам разослал читателям, по большей части влиятельным сановникам, свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», напечатанную в его домашней типографии.
В высшем обществе это вызвало тогда резкое осуждение, поскольку получившие издание посчитали себя скомпрометированными и оскорблёнными.
Поддаваться предположению об умышленном подбросе такого же рода вещицы лично ему поэт склонен не был; но мысль об этом всё же насторожила его. Что тут могло служить целью? Для кого?
Скорее, то было случайностью. Какое-нибудь обошедшее цензуру чтиво, в те годы всё чаще появлявшееся в разных местах, в том числе – в глубокой и дальней периферии, по моде, исходившей, может быть, от того же Радищева или же от писак, похожих на него изворотами неопределённых сомнений в общественных устройствах и неотмотивированным подстрекательством на неприятие и хулу кем-то и когда-то заведённых порядков; или же то могло быть творение явно неудавшееся, серое и плоское содержанием и просто сброшенное с торгового прилавка за отсутствием покупателя.
Злое и преднамеренное исключать всё же было нельзя. Однако оставалась непроницаемой причина. Для компрометации, в расчёте на неё в будущем, раз к тому появлялась подходящая возможность? Но отчётливому смыслу тут места всё же не находилось.
Алекс твёрдо знал, что, собираясь в дорогу долго, а под конец торопясь и будучи довольно рассеянным, он уведомил о точном времени своего отбытия только слугу, которому доверял всегда целиком и во всём, что только мог доверять сообразно своим потребностям или намерениям. Чтобы тому очутиться в роли агента, согласившегося на подлость, кто-то должен был на него очень сильно повлиять и понудить его. Никита вовсе не такой человек, который бы подчинился или хотя бы не промолчал об этом перед своим барином.
Даже как подневольный, он для такого – явно не подходил.
Коротко мозг обожгло очередное предположение. Оно касалось Мэрта.
Видимо, всё же следовало допустить, что тот имел целью обложить его посредством скрытой слежки и при этом должен был заручиться хотя бы каким, пусть и ни к чему не направленным компроматом, используя, разумеется, своего слугу. Но и оно, такое предположение, как ни был Алекс обозлён и раздосадован этим отщепенцем, выходило неровным и смутным.
Мэрту вроде как и не было нужды впрямую искушать себя непорядочностью в отношении лично Алекса. Впрочем, ждать тут можно было, наверное, чего угодно. И как раз на этом отрезке сбивчивые размышления вдруг будто устопорились.
В очередной раз Алекс готов был основательно изругать себя ввиду, как могло ему казаться, последнего и, пожалуй, самого значительного обстоятельства, выдававшего умелое служебное притворство Мэрта.
Тот при начале их встречи хотя и употребил подобающие случаю восклицания насчёт того, как он несказанно рад и прочее, но даже не спросил Алекса, куда, зачем и когда он поедет дальше.
Впрямую такого вопроса он не задал ему и позже, не отреагировав даже на шутливую жалобу самого поэта, обронившего, что его передвижений требуют дела, насаженные на долги, кои что ни месяц, то становятся тягостнее.
Оборотень чем-то отвлёк его от этой щепетильной темы, но в какой-то момент ловко её коснулся уже, как говорится, с другого бока, назвав и себя должником от века и перед всеми, и, завихрив эту фразу некоей банальной староватой сентенцией, над которой оба ненатянуто посмеялись, неожиданно, слегка сузив глаза и отведя в сторону взгляд, сказал, не обращая конструкцию сказанного в вопрос, непременно требующий ответа, а как бы лишь констатируя ситуацию:
– Так, стало, все и живём: дела-делишки, в долгах – под крышку. Слова – чужие, слышал их в одной нетрезвой беззаботной компании, но, полагаю, они правдивы, не находишь?
– Правдивы, согласен, а что до нетрезвой да ещё и беззаботной компании, то нам сейчас же резон выразить ей почтение. Прозит! – Алекс поднял бокал с токайским, смахнув тем самым направленную на него колкость.
Поддаваясь обаянию позволительного непринуждённого умствования, он в ту минуту попросту не был способен обнаружить хотя бы толику действительного смысла в лаконичной Мэртовой тираде. Теперь же он становился ясным как день.
Оборотень, много зная о нём прежде всего от своего лучшего дружка, временами даже впрямую укорял его в неумении жить, замахивался на его скверные, вызывавшие разные кривотолки в светской среде привычки к неумеренным расходам и к висту, что всегда обязательно приводило к долгам и к поиску новых долгов.
И уже по-новому осознавался так и не произнесённый Мэртом вопрос о дальнейшем следовании Алекса от места их встречи. Не произнесённый даже при расставании с ним, когда они прощались в теменности усадебного двора. Да ведь и мать его, барыня Екатерина Львовна, также не соизволила спросить у него, куда и зачем предстоит ему ехать дальше.
Не иначе как ей было хорошо известно об обстоятельствах неустойчивости его материального положения, и она только ввиду их с Мэтром взаимной дружеской привязанности могла считать ненужным выказывать перед ним истинное нерасположение, заменив его притворством добродушия и ласкового родительского соучастия.
Кажется, обо всём этом пробовало известить его и его глубинное внутреннее чувство, ещё раньше уязвлявшееся грубым светским отторжением и необходимостью латать возникавшие прорехи, на разные лады разыскивая кредиторов. Пробовало, но без успеха.
Он продолжал оставаться нем и глух, осаживая в себе поползновения к подозрительности, способные, как ему казалось, что-то порушить в догмате чести, в том, что полагалось воспринимать неоспоримым и вечным, несмотря на широко известную всем и ему тоже страсть государства к тайному услежению за возможным появлением откуда-нибудь из-за границы или выпуском новых книг в своём отечестве, по ряду причин, а то и просто на всякий случай относимых к запрещённым. Как это родственно слабоволию, согласию на унижение себя самим, на добровольное укорочение совести! Ты ли это, певец возвышенных умилений духа и любезной тебе свободы?!




