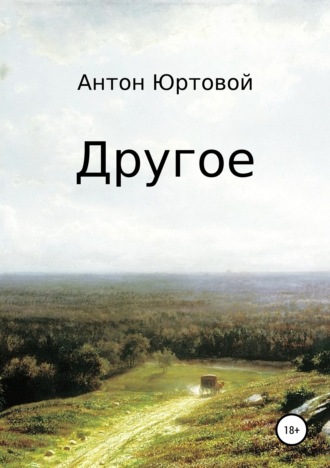 полная версия
полная версияДругое. Сборник
Тут был берег.
Тихое движение глубокой воды, испещрённой бликами от лучей солнечного света, не очень способствовало продолжению беседы. Оба на некоторое время смолкли. Сидя на скамейке, Маруся болтала ногами.
Алекс подумал, что хотел бы обнять её и что она, пожалуй, не противилась бы, дала целовать себя. Он знал, что у деревенских крепостных девиц под одеждой ничего исподнего не полагалось, а на ягодицах могли быть бледно-розовые уродливые полосы от розог, которые долго, а иногда и вовсе не затягиваются. Ему с трудом удалось подавить непроизвольно возникшее вожделение, и чтобы не дожидаться новой его волны, охваченный осознаваемым стыдом, он, стараясь не показывать своей поспешности, поднялся и пошёл вдоль берега дальше.
Маруся догнала его.
– Хотела у вас узнать… – робко обратилась она.
– Что?
– Сказывают, с молодым барином вы в большой дружбе?
– Верно. И уже давно. А тебе он хорошо знаком? Ведь он в усадьбе, как мне известно, жил недолго. С малых лет всё в городе.
– Всем здешним он запомнился с ребячьей поры. Был весёлым, даже озорным, не брезговал знаться с крепостными. А теперь стал совсем другим, настойчивым… Что не по нём, бранится и на руку бывает горяч. Не преминет учинить спрос… Вчера вот…
– Это, полагаю, от возраста. Мы все, когда взрослеем, уже не остаёмся прежними…
Он стал расспрашивать Марусю о местности. Девушка пояснила, что заблудиться тут невозможно. Речка ведёт к просёлочной дороге и к мосту – она указала на него, когда они ещё издали подходили к нему. Если пройти по той дороге налево и не сворачивать, будет перекрёсток, за ним ещё один, от каждого, опять же налево тянутся дороги в сторону деревни. Одна от другой не очень далеко. Между ними лес, а на его краю, ближе к барской усадьбе, церковь и кладбище. А отсюда, если прямо и направо, за речкой, луга да поля. Кое-где лес или колки. С бревенчатого моста, не имевшего перил, Маруся бросала в воду сухие затверделые комочки земли, сбитые повозками, подковами лошадей или тягловыми волами. Она начинала скучать.
– Спасибо тебе, – сказал Алекс. – Я останусь, а ты ступай. Барыню предупреди, пусть не беспокоится за меня.
Девушка удалялась быстрыми шагами, почти бежала, наклонив голову. Алекс догадывался: она плачет, в чём, возможно, из-за боязни огласки с его стороны или укоров, а то и побоев от Екатерины Львовны считала за лучшее перед ним, барином, сдерживаться; теперь же, оставив его, она даёт волю огорчению от своей бедовой участи одиночки, видимо, ещё пока умевшей надеяться: всё-таки её Аким сможет каким-то образом вернуться, и неясное ожидание чуда хоть и утишало, но одновременно и обостряло девичью тоску.
Пыльная дорога, резко взрытая ободьями колёс и копытами, с давно иссохшими или только ещё подсыхавшими кругляшами и ошмётками лошадиного и воловьего помёта, уже неподалёку от моста пересекалась той, что тянулась от ворот усадьбы. Было видно, что последние, кто проезжал просёлком, проносились по ней едва ли не ускоренным галопом.
И впрямь, здесь нельзя было не воспользоваться возможностью для этого. Насколько хватало глаз, путь пролегал по месту совершенно ровному и открытому. На таком прогоне медлить никто не захочет. Другое дело – дорога хозяйственная.
Она как-то очень спокойно, почти под прямым углом будто с ленцой уходила от деревни и перекрёстка, теряясь в небольших оврагах, за которыми в лёгкой дымке нараставшего светового тепла обнажались убранные хлебные нивы, занимавшие обширный, слегка пологий массив.
Там после росных часов шла уборка снопов. Копны их правильными рядами тянулись понакрест обширного поля. Большая его часть уже была свободной. А у самого его края вырастала скирда, рядом с которой, пользуясь тем, что сухо и солнечно, несколько работников уже вскидывали цепы, вымолачивая зерно с доставляемых возами отдельных партий снопов. Там для этого была расчищена и разровнена площадка.
Быстрые взмахи цепами выдавали спешку работавших: им надо было управиться хотя бы с небольшой частью подвоза, нагружаемого с копен на убираемом массиве.
Росла и скирда; наверху её и снизу суетились её взмётчики. В том облоге всё воспринималось уменьшенным из-за расстояния. Лишь два не успевших осесть и потому сильно взъерошенных воза со впряжёнными в них лошадьми и фигурами возничих поверх на каждом, следивших, чтобы снопы «не расползались» и оставались плотно стянутыми верхними балками и верёвками, соединявшими их спереди и сзади с остовами телег, – эти два нагруженных воза еле заметно двигались в сторону просёлка по направлению к имению и были уже далеко от поля и видимы почти в натуральную величину. Снопы на них следовало доставить на гумно, где с обмолотом можно было пока не спешить.
На прогоне и рядом Алексу не было видно никого. Только отчаянно жужжали оводы и мухи, раззадоренные обильным, но редким для такой поры теплом, да, освежаясь в лёгких воздушных потоках, взмывали на высоту и там затевали какие-то неспешные замысловатые свалы или кружения редкие некрупные птицы. В синеве небесного купола, где то здесь то там провисали нестрогие серовато-белые облака, это мельтешенье птиц воспринималось неким подобием процесса подрисовки, когда раздумывая над создаваемым образом, живописец кистью торопливо наносит на полотно мазки, стремясь не упустить что-нибудь очень, на его взгляд, существенное, но так ещё и не находя искомого.
Алекс радовался одиночеству. Нельзя было различить дул ли хоть слабый ветерок и если дул, то куда и откуда. Это правила торжество пора благословенной тихости и покоя, когда всё окружающее и погружённые в него чувства будто замирают во взаимном наслаждении и в умиротворённости.
Ощущение того, что должно последовать, куда-то уплывало; будущего вроде как просто не ожидалось. В стороне от слоя перетолчённой пыли, устилавшей дорогу, место выглядело хотя и немного заезженным, но убережённым, выхоленным, чистым; здесь по ковру из низкорослой плотной травы, сплошь застилавшей давние следы от редких повозок, с ещё не обозначившейся колеёй, идти было легко. По обеим сторонам тракта тянулись заново озеленевшие после выкосов травы и стога на них. Пахло душистым свежим сеном.
Временами он швырял железную биту, удовлетворяясь чувствованием здоровой мускульной силы. Было хорошо думать о том, что вот сейчас думать если и надо, то вроде как не обязательно или если и думать, то – ни о чём и что всё равно такое состояние отрешённости не окажется бесполезным напрочь: возможно, уже вскоре оно обернётся то ли какой-нибудь неожиданной свежей мыслью, то ли даже яркой рифмой или строфой, а то и целым стихотворением. В том, что будет именно так, он был уверен твёрдо, и осознавать это было ему весьма по душе и кстати – не только в виду текущего ласкового момента, но и той части прогулки, которая уже оставалась позади и вмещалась в отдельную яркую картину, вобравшую в себя неотчётливую смущённость от общения с бедной Марусей. Зарождалось желание находиться в состоянии убаюкивающей мягкой и какой-то почти прозрачной задумчивости возможно дольше.
Впереди между тем уже угадывался перекрёсток с отводом от него в сторону усадьбы. Как и поясняла Маруся, дальше располагался ещё один. Ходьба от моста заняла, по всей видимости, более часа. Алекса вполне устраивало то, что по дороге за всё это время так никто и не проехал, ни попутно, ни встречно ему. Он немного устал, и хотя нужно было возвращаться, не спешил.
У съездов с тракта пустырный пейзаж с терявшимися далеко позади лоскутьями нив и лугов резко менялся. Почти вплотную примыкали массивы высокого густого леса. Оттуда исходила приятная боровая прохлада, смешанная с некоторой утробной таинственностью. Не на том ли вон могучем древнем узловатом дубище, стоящем у самой дороги и растолкавшем кроною ближайшие к нему берёзы и ели, мог обретаться на изящной золотой цепи говоривший сказки и певший учёный мурка?
Любопытствуя, Алекс прошёлся по просёлку несколько дальше второго съезда, что было уже как бы лишним. Но едва он повернул назад, как его осенило смутное и очень странное соображение.
Пыль на участке между съездами выглядела не такой взбитой как на других, примыкавших к нему полосах главной дороги. На этом вот, втором, то есть более отдалённом от поселения, повороте явно обозначалось торопливое гуртовое передвижение.
Следы от подков указывали, что передние ездоки, спешившие к съезду и, видимо, остановленные по команде, проскочили его и были вынуждены резко осадить лошадей, хаотично устремляясь отсюда к усадьбе вместе с остальными. Копытные следы пестрели наряду с полосами от ободьев, частью их покрывая. Это могло говорить о верховом сопровождении фур не только спереди, но также и – арьергардом.
У первого съезда картина повторялась. Выехав со стороны усадьбы, отряд частью перескочил перекрёсток, сумбурно истоптав и его, и его закраину. Дальше следы уходили по главной дороге в направлении моста, откуда Алекс проделал путь, будучи расслаблен в чувствах и не особо внимателен к окружавшим приметам.
В целом картина указывала на весьма редкое движение по просёлку; со вчерашнего дня это были единственные хорошо заметные свидетельства, если не считать оставленных фурою, в которой добирался до усадьбы сам поэт; но те оставались в преддверии поворота к деревне уже основательно скрытыми, и ему хорошо помнилось, что, приближаясь сюда, он видел дорогу, уходящую к теперь уже знакомому мосту хотя и в полосах от ободьев и в ямках от конских и воловьих копыт, но основательно припорошенную пылью, – сюда, очевидно, прорывался ветер, нагнавший дождя, который пролился на оставшемся позади отрезке пути. На то, что на этом участке могло тогда быть дополнительное по времени движение повозок или лошадей, ничто не указывало. И до сих пор его вид оставался таким же, припорошенным пылью, каким помнился с вечера накануне.
Возбуждённый увиденным и каким-то, будто уже уяснённым тяжёлым подозрением, он почти бегом опять направился ко второму съезду и от него так же спешно – по следам, ведущим к усадьбе. Показался купол церкви. Примерно за треть версты от храма открылась обширная пустая поляна. Сомкнутая краем с дорогой, она представлялась неуютной, изрытой подковами, в остатках изобильного и безалаберного ночного постоя, с размётанными кучками ещё не подсохшего конского помёта, золой от костров и отброшенными в стороны обступавшего леса деревянными лавками. Довершали картину несколько валявшихся то тут то там пустых или разбитых бутылей из-под вин, обрывки тесьмы, бумаги, модный носовой платок…
Накануне Алекс проезжал здесь ещё не до конца стемневшим вечером. Поляна выглядела совсем другой. Тогда к ней спешила крепостная молодёжь. Это место отводилось ей для забав и общих встреч. Было видно, что оно содержалось довольно ухоженным, и присматривать за этим наверняка поручалось кому-либо из лиц, облечённых барским доверием.
Под ногами юных рабов земля здесь была во многих местах уплотнённой до гладкости, но ровной, по сторонам же от таких участков из неё выбивалась густая низкая травка, что позволяло собирающимся чувствовать себя в неком подобии уюта под открытым небом даже в сырую погоду. В те времена такие летние площадки для развлечений существовали уже в каждом русском селении. Отводить их для подневольной молодёжи дворянам было и ненакладно, и полезно.
Неожиданно показался Никита. Алексу он сообщил, что оставался без дела и просто идёт навстречу, не надо ли чего. Да и к возвращению давно уже пора бы, всё ли, подумалось ему, благополучно. А почему в эту сторону – на то указала Маруся. Он видел её и узнал от неё: барин должен пройти сюда повкруг, всё время держась левее. Заметив, что Алекс, не прерываясь, разглядывает место, слуга принялся подробно и по своему обыкновению как бы равнодушно пояснять, что здесь и к чему. Он, оказывалось, многое знал.
– Барин-то приезжали не одни, вот с ними… – он повёл рукою, обозначая всю поляну. – И с ними же отъехали. Тут следы…
Между деревьями в сторону параллельной дороги можно было разглядеть проём, достаточный для проезда повозок и верховых, но, судя по всему, ставший хозяйству ненужным.
Над проёмом густо нависали ветви деревьев, почти сплошь закрывая его верх. У начала этой своеобразной лесной дыры земля была истолчена копытами лошадей и ободьями колёс.
Оба прошли вглубь. Подлесок только начинал здесь осваиваться; кое-где он едва перерастал буйствующую траву. Брошенная старая глубокая колея зеленилась от укрывавшего её плотного и мясистого мха. Здесь проезжавшие двигались, видимо, при самом начале рассвета, когда в лесном массиве было ещё почти темно и росно, поэтому и оставили они после себя хаотичные примятины на отсырелой земле, по мху и на траве; книзу в разных местах клонились надломленные и ободранные стебельки молоденьких сосёнок, осин и берёзок. Скоро дыра закончилась, и без труда можно было определить: отсюда отряд поворачивал на просёлок, уже к другому выезду на него.
В Алексе вспыхнула и заклокотала ярость.
«Какие у него, к чёртовой матери, заграницы! – вознегодовал он в адрес Мэрта. – Обыкновенный ловец, а то и всего лишь наводчик. Полевая тайная жандармерия!»
Больно заныло в груди. Стало трудно дышать. Было стыдно перед Никитой, за себя, за всё. Котёл, возможно, никогда не был пустым!
Он отвернулся, не желая выглядеть задавленным и униженным и в то же время зная, что всё тут хорошо понятно и слуге. Тот стоял растерянный, жалкий, что-то сочувственно бормоча, не находя возможным как-то иначе вмешаться, чтобы разрушить всё более утомляющую барина атмосферу чёрной подавленности. Несколько раз Никиту передёргивало от коротких приступов кашля, он сморкался, обнаруживая простуду, что по отношению к назначенной на завтра совместной с ним поездке было явно некстати.
– Поди себе, – сказал ему Алекс, тяжёлым усилием удерживая полыхавшее своё нутро и какие-то неясные предчувствия. – Я скоро. Да возьми вот, – тихо и медленно проговорил он упавшим голосом, передавая железный предмет, становившийся больше ненужным.
День потянулся для него нескончаемой цепью узнавания о самых прозаичных, но, разумеется, далеко не мелких для обитателей поместья событиях, так или иначе восполнявших скрытое в оставленных отрядом подорожных следах.
Одно за другим они буквально обнажались на пути, где бы ни оказывался ошеломлённый их обнаружением здешний гость; они прямо-таки вонзались в его вздёрнутое сознание, лезли ему на глаза. Ещё на подходе к усадьбе, куда он направлялся вскоре после того, как отослал туда Никиту, произошла буквально потрясшая его встреча с Евтихием, местным старостой.
Это был человек лет сорока пяти, ещё довольно моложавый, рослый, подтянутый, с чертами невозмутимости в лице, говорившими о полном осознании им своей ответственнейшей роли в хозяйстве и об исключительно трезвом физическом образе его повседневной жизни. Тут явно была некая добровольная служебная жертвенность, как цена за предоставленную ему огромную власть над себе подобными. Она, эта власть, хотя и не давала выхода из рабства, но могла, по крайней мере, выражаться как что-нибудь необщее, индивидуальное, доступное в пределах имения только ему, из подневольных единственному.
Не вполне ясное осмысление своей значимости проявлялось в нём до избыточности ровным укоренившимся восприятием всего, куда только могла простираться его компетенция. То, конечно, могло быть прямым следствием жизни в условиях тяжёлой усадебной замкнутости, при которой становились почти нереальными соприкосновения с остальным, внешним миром и устранялись возможности сравнивать свою роль с ролями других, таких же, как он, надзирателей.
Наверное, была тут ещё и утеря чувства необходимой осторожности вопреки той особенности его каторжной миссии, когда не могли быть исключены ни господские нарекания по любому, даже пустячному поводу, ни укрытая забитой покорностью лютая к нему ненависть крепостных; но внешне этого теперь почти ничего в нём не обнаруживалось. Окаймлённое снизу бородой, загорелое до черноты и вспухшее лицо выглядело изуродованным. На нём бросались в глаза огромные затёкшие синевой свежие кровящиеся ссадины, одна занимавшая почти всю левую щёку и нос, а другая, располагавшаяся в верхней части лба и неумело прикрытая торчавшей из-под зимней шапки бугристой прядью свалявшихся густых и длинных серых волос.
Побои угадывались и в других местах заметно сжавшегося тела, особенно на спине, из-за чего старосте, чтобы унять боли, приходилось наклоняться от пояса вперёд несколько больше обычного, расставляя руки и ноги, однако он как бы и не считал нужным скрывать то, что с ним сотворили. Тем самым он, скорее всего, обозначал возможность по-своему круто наказать любого ему подвластного, кто осмелился бы в принижение доставшегося ему ранга хотя бы лишь усмешкой или как-то иначе дерзко намекнуть на воздаяние ему суровою мерой отвлечённой всеобщей справедливости, вбиравшей в себя, само собою, и подлинное житейское обоснование его беспощадного, хотя, вероятно, и не заслуженного истязания.
Направляясь к воротам усадьбы от злополучной молодёжной поляны, Алекс увидел его совсем близко идущим через лёгкий пешеходный мосток со стороны кузницы. Староста прервал шаг и поздоровался, сняв головной убор и по-холопски раскланявшись.
– Не будет ли приказаниев? – спросил он, слегка шепелявя, почти беззвучно, раскрываясь таким способом ещё и о болях во рту, на зубах.
– Благодарю, ничего не нужно. А – что это с тобой?
– Так, нечаянно…
– Кто же? Я умолчу, не таись.
– Не смею… Барыня строго-настрого…
– Умолчу. Даю слово. Можешь верить.
– Не сперечу; но вы уж… А то не обернулось бы хужее… Их сынок. Ещё ввечеру… По приезде…
– Сам?
– Сперва сами, а утомимшись, велели Василию.
– Кто это?
– У кузнеца помощником. Силища как у быка; на меня зол.
– Из-за чего?
– Отведывал моей руки… Торопился сватать… У меня… К моей… Дело привычное…
– Почему как раз – он?
– Против своей воли. Попался барину на глаза.
– И что же?
– Вернейший у нас приём – не розгами, так того пуще – плетью. Быват вперемежку… Меня – прутьями, лозовыми…
– Позволь, но – за что?
– Не смею…
– Всё же.
– Позорно. Смиловайтесь…
– Умолчу. Клянусь…
– К их приезду гулявшие оставались на месте. Видемши отряд. За то избит вручную и сапогами… Хотя – не виновен. От сына было письмо, наверное с уведомлением; барыня же мне ничего не сказывали… Я не знал…
– А – розгами?
– Позорно, вашество…
– Требовал? Чего?
– Как и в прежних появленьях…
– Девку?
– Известное… Да в энтот-то раз не чужую… Мою дочку… Ну, – что и с Василием… Лишь подрастает…
– Взял?
– Виноват. В непослушании… Осержу…
– Не винись. Мне надобно знать.
– Не позволимши… Предпочтя экзекуцию…
– Но мстить Василию ты ведь не будешь? – Этот вопрос напрашивался хотя бы ввиду того, что избитый, вероятно, заходил в кузницу уже не только с обидой и злостью на подручного за доставшиеся розги, а при всех своих прежних правах и полномочиях, чтобы, например, справиться там у кузнеца о каком-нибудь заказе от хозяйства или дать работникам новое задание.
– Пошто о том? Он, как и я, принуждался… Барская воля… – Евтихий поднёс к груди находившуюся в руке шапку и сделал поклон, выражавший просьбу освободить его от дальнейших расспросов.
Тягостный диалог чем дальше, тем выходил утомительнее – уже для обоих.
Отпуская старосту, Алекс чувствовал, как негодование в нём будто затвердевало, слипалось и душило его, не позволяя вернуться хотя бы в то состояние едва только набегавшей неровности и неясной встревоженности, в котором он находился, приближаясь к поляне, где встретил Никиту. О том же, что позади осталась ещё и та часть прогулки, когда можно было предаваться неопределённой мечтательности и беззаботному верхоглядству, просто ничего уже не помнилось. Не говоря уж о времени, совместно проведённом наедине с Марусей, которое памятью следовало удерживать как особенное, хотя и затронутое искренним болезненным сочувствием к несчастной девушке, но всё же какое-то светящееся, зовущее к покойной радости, почти целиком закрывавшее непродолжительные попутные тогдашние мысли насчёт своей несуразной забывчивости о случившихся собственных дорожных неприятностях предыдущего дня.
С этим соседствовала и ещё некая всё более отяжелявшая и угнетавшая его мысль, которая касалась той части беседы с Марусей, когда он отвечал на её расспросы о молодом барине.
«Она не иначе как хотела сказать больше, чем успела, и, скорее, даже непременно то, что уже знала о неожиданном ночном визите Мэрта с отрядом…»
Что так и могло быть, в этом он уже не сомневался.
Войдя в усадебные ворота, Алекс неожиданно увидел на крыльце барского дома Марусю.
Она спускалась по ступенькам крыльца, и было вполне уместно заговорить с нею уже как бы в продолжение того, что осталось не выраженным ясно о сыне барыни во время их прогулки; но тут за девушкой сразу вышла на крыльцо Екатерина Львовна и, ещё пока не заметив гостя, что-то стала говорить ей резкое и требовательное, пресекая отлучку и заставляя немедля вернуться в дом. Сцена выглядела довольно угрюмой.
Алекс догадывался: барыня расспрашивала крепостную и наверняка выведала у той, что говорилось о её сыне, так что теперь следовало ни в коем случае не допустить ещё одного контакта Маруси с приезжим и на всякий случай удерживать её в доме, на половине, отведённой челяди…
Слов Екатерины Львовны хотя и нельзя было разобрать, но по их досадливому тону, а также и по тяжёлой озабоченности или даже испуганности на её лице совсем нетрудно было понять, что барыня слишком поздно осознавала свою промашку с устройством для гостя вольного выхода из жилой части усадьбы в сопровождении Маруси, – лучше бы ей было ограничиться отказом, основание которому она сама так подробно и живописно объяснила, поведав об очередной массовой порке подданных.
Предположения о причинах, угнетавших хозяйку, чуть позже подтверждались и рассказом Никиты.
Маруся считалась «ничьей» по рождению, то есть – подкидышем. Воспитывать её отдали прачке, разбитной молодке, оставшейся с тремя своими детьми вдовой после неожиданной смерти мужа, солдата, проведшего на военной службе около четверти века и вернувшегося домой старым и с ворохом недомоганий.
Отцом же девушки называли теперешнего старосту Евтихия, чего, впрочем, доказать никто не мог. Мнение, что родитель ей именно он, крепло с годами из-за того, что лучшей подружкой у Маруси оказалась настоящая дочка Евтихия, Настя, моложе Маруси почти на целых два года, но не по летам рослая и пригожая, и Евтихий всегда мирволил обеим, не возражал и не сердился, когда кто-нибудь называл их сёстрами…
Как раз Настя и стала предметом похотливого желания Мэрта, и уж об этом-то Маруся просто не могла не знать. Как не могла не знать и обо всех других сумбурных последствиях, увенчавших очередное посещение барским сынком родовой усадьбы.
Никита имел возможность многое услышать и от мужского состава челяди, и от женского. В том числе и от Маруси с Настей. А частью и от самой госпожи, по натуре неисправимой болтушки.
Хотя слуга умел быть замкнутым, но он хорошо знал своего барина, чтобы притворяться неосведомлённым и не докладывать ему обо всём, что могло интересовать его. Алексу не стоило большого труда как бы нечаянным вопросом заставить его разговориться. Ответы он всегда слышал короткие, но правдивые и обстоятельные. Теперь, однако, выспрашивать многое ему просто не было нужно и не хотелось. И того хватало, в чём пришлось удостовериться самому.
Мысли болезненно выстраивались в одном: что за дурацкий изворот, утаскивал его, Алекса, прямиком в сумрак задавленного состояния жизни низшего сословия? Что это? Не знак ли здесь того, что ему, поэту, пока ещё вовсе не старому, но уже слишком часто говорившему и писавшему о своём старении, так и не удавалось отрешиться от былого, от мечтаний, от светлых и пустых надежд? Своей ли была и удерживалась в нём эйфория беззаботной молодости, стихотворная насмешливость над его судьбой и её изгибами? Над тем, куда он с большой собственной охотой позволил влезть оборотню Мэрту?
Мало тебе других неприятностей, так получай их ещё и от этого поганишки.
Ну да, как же теперь воспринимать и называть этого подлого человека?
Дружба с ним казалась надругательством, издёвкой. Она была уже сплошной грязью, фоном, где не могло находиться ничего осветлённого и понятного. Зрела растерянность; что-то в душе увеличивалось обвальное, опустошающее, обессмысленное.
Зачем он здесь? И куда едет? Что нужно ему в этой поездке? Только деньги, заём?
И чем она может закончиться?
Наступал поздний вечерний час. Алекс объявил барыне, что едет рано утром. Так же рано, как то было с отъездом Мэрта. Знал, что уже будет не до сна, даже не вполне полагал, поедет ли дальше или вернётся вспять, домой, к себе…




