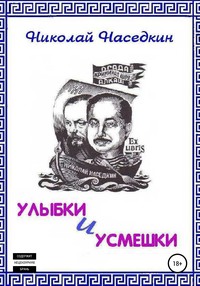Полная версия
Гуд бай, май… Роман-ностальжи
Мы вдвоём с бригадиром в тёплый майский вечер остались на часок после работы – разгружали запоздавшую машину с бетонными блоками. Бригадир цеплял стропы в кузове, я принимал груз на земле.
– Глянь-ка, – добродушно хохотнул бригадир, – твоя зазноба для тебя вырядилась. Ишь, вышагивает, красотка…
Я глянул. И – обалдел. От химобщаги к конторе мимо нас шла-выступала Фаина. До этого видя её лишь в бесформенной робе, в косынке, без косметики, я даже не узнал её сперва – в лодочках, капрончике, светло-голубом платьице, с яркими губами и распущенной по плечам золотистой волной волос. Но и это ещё не всё. Когда Фая, почему-то делая вид, будто меня не замечает, отвернулась на ходу, вскинула обнаженную белую руку, приветствуя кого-то ладошкой, ветерок вдруг подхватил сильнее нужного подол её платьица – я увидел край капронового чулка и ослепительную полоску девичьего тела… Длинная горячая спица томительно медленно вонзилась в мой постящийся организм и осталась в нём, где-то в районе пупка, сладко-садняще покалывая. Я закипел, заволновался, взбудоражился и понял: я – пропал.
Вечером, поддав для наглости винца, я прибыл на попутке к двухэтажному общежитскому замку, где обитала моя принцесса-невольница. Рисковал я здорово: нейтралитет между новосельскими парнями и химиками ещё не устоялся, и я вполне мог получить в общаге по ушам. Но я – пылал. Я – таял. Я – потерял последний умишко. Я боялся более другого: а ну как Фаина моя распрекрасная возьмёт да и пошлёт меня куда подальше, да ещё и с громким хохотом…
Она выскочила на крыльцо, встрёпанная, в халатике, радостно-удивлённо вскрикнула:
– Саша? Ах, какой ты молодец! Сашенька! А я ждала… Я сейчас.
Она мигом переоделась. И мы бродили-гуляли вокруг общежития, потом по степи, затем забрели на загромождённую территорию нашего РСУ. Мы, захлебываясь, говорили, бурно смеялись, порывом, внезапно обнялись. Поцеловались. Нас как током шибануло, опьянило. И – что уж скрывать – в эту же шальную пьяную ночь, найдя незапертый вагончик с широким дощатым столом, на котором днём работяги забивали доминошного козла, мы с Фаей познали друг друга – согрешили сладко, неистово, безрассудно, сумасшедше…
Уже через день, в воскресенье, я привёз Фаю к нам домой, в гости. Я стеснялся: это вообще был первый случай, чтобы я приводил официально нах хаус существо женского пола, к тому ж Анна Николаевна вполне могла отождествить Фаину с прежними моими тайно-ночными визитёрками. Это – с одной стороны. С другой – стыдно было перед Фаей за убогость нашей обстановки. Я всю жизнь из-за этого терпеть не мог гостей.
– Вот, муттер, знакомься, – развязно проговорил я, – это Фая. Как видишь – красавица. Вместе в одной бригаде пашем. А это, Фая, – наш дворец и его хозяйка, майне муттер.
Я, конечно, избегнул слова «химия», забыв совершенно, что уже ранее рассказывал матери о странном пополнении в бригаде. Но вот чудо-то! Буквально с первой секунды Фаина и Анна Николаевна качнулись навстречу друг дружке, распахнули души. И уже через пяток минут мы втроём сидели дружно за столом (сестра с Иринкой прогуливались) и вкусно общались, чокаясь и скромно закусывая – бутылочку винца мы принесли с собой. Фая, разогревшаяся от гостеприимства и внимания, с жаром рассказывала муттер за свою жизнь, а муттер с не меньшим пылом её слушала. Анна Николаевна сердцем сразу почуяла в красивой и раскованной девчонке её простодушие, доверчивость, ласковость и, вероятно, уже выглядывала, как и положено матери, в подружке сына будущую свою невестку.
И тут случилось непредвиденное: Фая с каждым глоточком портвейна возгоралась всё более, возбуждалась и вдруг поплыла – жесты её надломились, глаза затуманились, язык начал путаться в зубах. Я внутренне скорчился: мне и жалко стало Файку и так стыдобушно перед матерью – подумает ещё, что пьянчужку какую домой приволок. Но Анна Николаевна, продолжая меня удивлять, помогла мне доставить отяжелевшую девчонку в мою комнату, уложить в постель. Потом сбегала намочила полотенце, приложила к голове гостьи, подставила к кровати таз.
Когда Фая, намучившись, задремала, мы сошлись с муттер на кухне.
– Ты ей пить не давай, – заботливо посоветовала мать. – Видишь – нельзя ей. И сам поменьше бы употреблял, а?
И вдруг перешла на взволнованный радостный шепот:
– А как человек она – хороший. Молодец!
– Она – молодец?
– Ты молодец! Такую и надо для жизни – добрую, душевную. Если ты для баловства – лучше уж оставь сразу.
Куда там оставь! Я втюрился в Фаю по самые кончики оттопыренных своих ушей. В нас с нею уже пульсировал общий кровоток.
– Так она же зэчка, срок тянет, – подначил я.
– Ну что ж, судьба у неё такая, – вздохнула Анна Николаевна и привычно философски резюмировала: – От сумы да от тюрьмы не зарекайся…
Фая ночевала у нас.
Наутро она краснела, каялась и оправдывалась. Анна Николаевна поила её крепким чаем с гренками и успокаивала. Я млел и мурлыкал. А потом мы рысью мчались на остановку рабочего автобуса, сочиняя на ходу байки для коменданта. Ничего путного нам в головы не вскочило, и Фаине моей ненаглядной вкатили строгое предупреждение за слом режима.
Потом Фая ещё и ещё раз ночевала у нас, проводила с муттер вечера в беседах-разговорах, а ночью уносила меня на крыльях страсти в выси чувственной любви – не знаю, как я не задушил её в объятиях.
Комендантские угрозы и предупреждения множились. А однажды моя красавица Фаина и вовсе осталась у нас жить. Анне Николаевне мы соврали, будто Фае предоставили свободный режим и разрешили жить на квартире. Вслух в доме не говорилось, но как бы само собой подразумевалось, что рано или поздно мы поженимся.
Через недельку нас вместе с Фаей прямо с работы дёрнули к коменданту – раздражительному тучному майору с седым ёжиком на голове. Он гневно взъерошил щетинистый ёжик и через мать-перемать прорычал нам свой вердикт: мол, сношаться нам он запретить не может и не запрещает, а вот ночевать условно осуждённой Фаине Алексеевой вне стен общежития он категорически запрещает и в случае неповиновения отправит её, условно осуждённую Фаину Алексееву, на возврат, то есть, попросту говоря, – за колючку, в зону…
Угроза пугала. Мало того, что Фаю могли упечь в колонию, но ещё и весь срок её, все три года, возобновились бы сызнова, с первого дня. Я хотел было загнуть багровому майору-кабану пару непечатных и ласковых, но Фая-Фаечка-Фаина впилась в ладонь мою своими ноготочками…
Пришла разлука.
Фаину перевели в другую бригаду, на другой участок. Меня майор приказал не пускать в общагу. Мы стали видеться с Фаей урывками, мимолётно. Я, не зная, как себя усмирить, унырнул опять с головою в портвейн. Но зелено вино лишь ещё шибче взбаламучивало и без того кипящую кровь.
Мы вытерпели две недели. Раз Фая, на обеде в рабочей столовой, на бегу, сунула мне записку в руку. Я бросил недоеденную котлету, выскочил на ветер. Листок в клеточку перечёркивали лихорадочные строчки почти без знаков препинания, как в телеграмме, лишь восклицательные знаки топорщились колючками:
«Саша здравствуй!
Сашенька милый люблю и не могу без тебя! У меня в душе страшная без тебя пустота! Ну почему я такая несчастная! Полюбила первый раз по-настоящему а судьба нас разлучает! Я всё равно не выдержу и приеду к тебе в воскресенье! Жди! Я приеду! Иначе – хоть в петлю головой!
Сашенька соскучилась ужасно!
Целую! Целую! Целую!
Фая»
И уже после имени, после подписи – совсем неожиданное и детское: «Мой большой-большой привет Анне Николаевне Любе и Иринке!»
Была пятница. День получки. В душе наступил просвет (воскресенье!), но пасмурность ещё преобладала. Когда бригадир предложил: «Ну что, Сашок, с нами или отколешься?», – я сунул до кучи свою пятёрку.
В пивнушке, которую сами мужики не без юмора именовали – «Бабьи слёзы», колыхалась, гомонила толпа. Тетя Люся, бессменная буфетчица, в грязном маскхалате, с багровой от выпитого физией, полоскала захватанные банки в ведре с мутной водой и крыла хриплым матом дебоширов. Один из посетителей уже храпел на заплёванном полу, другой клиент ещё только пристраивался подремать в уголочке. Хлипкий мужичонка в разодранной телогрейке всё пытался сплясать цыганочку, но не хватало места, и он умоляюще пристанывал:
– Ну, ироды, дайте же сбацаю!
Переборщивший алкаш у входа тыкался мордой в липкий стол и страшно, натужно икал. Всё плотнее сгущался слоистый туман из табачного дыма, паров пива, бормотухи и водяры.
Мы своей бригадой вшестером заняли столик у окна. Мигом он оказался сервирован: распочатые бутылки водки, на куски растерзанная мокрая колбаса с рыбным запахом, раскромсанная буханка хлеба, вспоротая банка килек в томате и жидкое пиво без пены в пол-литровых банках. Тёплая водка, к которой я ещё не приучился, в смеси с пивом жидким свинцом оседала в желудке и в мозгах. Обстановка давила. Я тупел и мрачнел всё больше. Хотелось жалиться и плакаться в жилетку, но – где найти человека в жилетке?..
Домой я приплёлся в развинченном состоянии. Натикало уже без малого девять, надвигалась ноябрьская глухая ночь. Я сел в кухне на табурет и стиснул ладонями трещавшую по всем швам башку. Мутило. В мозгах пульсировало: «Воскресенье – послезавтра – воскресенье – послезавтра…» Я выудил из стола бутылку благородной «Варны», припасённую к 7-му ноября, распечатал, хлобыстнул стакан – вроде уравновесился.
Вошла муттер, поставила на плиту чайник, воспитательно-едко хмыкнула:
– Правильно. Наклюкаться и – никаких проблем.
– Тебе привет от Фаи, – уныло сказал я. Ссориться не хотелось.
– Спасибо! Видел её? – живо откликнулась мать и неосторожно, не подумав, добавила: – Что же ты на ней не женишься? Девушка она добрая, даром что красивая… Женись да и всё. Сколько ж будешь перебирать невест?..
Муттер ещё что-то говорила и говорила, а я про себя ахнул: как же это мне в голову не приходило? Жениться на Файке немедленно! Быть всегда – и днём и ночью – вместе, плевать на всяких там майоров и дурацкие режимы!..
Мать пыталась меня остановить, но я, хватив ещё стакан «Варны», галопом помчался в ночную степь. Попутки не случилось, и я все километры отмахал, переходя с бега на шаг и с шага на бег.
Знакомый химик вызвал Фаю. Мы чуть не задохнулись от поцелуев. Фая плакала и смеялась. Я лепетал ей что-то про счастливую семейную жизнь…
Вскоре мы вышагивали по пустынному тракту к Новому Селу. Моросило и подмораживало. Я укутал Фаину в свою куртку, крепко прижимал к себе, но она всё равно дрожала. Смеялась и дрожала. Редкие машины, не задерживаясь, обгоняли нас, уносились равнодушно прочь.
– Ничего, ничего, – припевал я, обнимая пожарче свою юную жену-невесту, – теперь будет всё о'кей и гутен морген…
Догнавшая нас очередная машина тормознула сама. Воспрянув, я подскочил к «уазику», распахнул дверцу, близоруко прищурился.
– В село подбросите?
И – охнул. Рядом с сержантом-водителем раскорячился на переднем сиденье мордатый майор…
(«Муттер»)
Бедную Фаю угнали не только обратно в лагерь, но и – аж на Дальний Восток, на Амур. А я через месяц загремел таки в армию, да ещё и – в стройбат, в забайкальские степи.
У меня остались-отсеялись в памяти только хорошие, вкусные, светло-грустные страницы этого диковинного романа. Однако ж, память – странная штуковина! Зато бумага беспристрастно сохраняет всё. Из четырёх написанных мне Фаей писем сохранилось три. Одно я уже привёл-процитировал в повести, а вот и другие два, из которых вполне понятно, что назревала в наших отношениях драма (запятые, которые Фаина моя не признавала, я всё же расставил).
«Коля, здравствуй!
Прошу, не смейся над неправильными словами.
Можно один вопрос? Почему ты был сегодня грустный? Посмотрел на меня таким отсутствующим взглядом и… бежать. У меня настроение – не дай Боже никому такого. Снова температура. Как она мне надоела за все эти дни!
Коля, я не знаю, как тебе всё написать. Теперь я точно узнала, что у меня будет ребёнок. Я не знаю, что делать!!! Просто хоть в омут головой. Да и что меня бесит – твоё отношение ко мне. Пожалуйста, не будь жестоким, объясни мне всё. Не раз говорила – люблю!..
Хотела в воскресенье приехать, но есть одно немаловажное «но»… Буду ждать твоего ответа.
Прошу, напиши всё откровенно: о чём думаешь и как думаешь обо мне.
Николушка, соскучилась ужасно!!!
Жду!
Целую!
Фая».
«Коля, здравствуй!
Ты снова ушёл, и я сразу же сегодня пишу.
Колька, милый, люблю и не могу без тебя! Помоги мне! Сейчас у меня в душе какая-то пустота. В голове ничего не осталось. Ты меня сегодня удивил: “Всё делается бесплатно…” Но того, что ты хочешь, – не будет! Пусть мы с тобой и расстанемся – всё-таки будет память о тебе.
Николушка, люблю! Ну почему я такая несчастная?! Одного полюбила, а он – от меня. Коля, не могу, не хочу тебя от себя отпускать!
Я всё равно завтра приеду. Если тебя не застану дома – буду ждать. Договорились??!!
Жди, я приеду.
Целую!!!
Фая».
Уже в разгар весны, в армейской казарме я получил ещё одно – четвёртое – письмо от Фаи. Она сообщала, что у неё родился сын…
Я не ответил. Я был в тот период стройбатовским салабоном – грязным, голодным, сонливым, затюканным, униженным, вялым, апатичным и почти больным. Мне было не до романов, не до любви, не до своих и чужих детей…
Может, и зря!
8. Люба I
Но первый – каторжный – год службы-срока всё ж таки истёк-кончился.
Став «черпаком», а затем и «стариком», я всё заинтересованнее начал опять поглядывать на женский пол, тем паче, что в военном городке его, этого приманчивого пола, вполне хватало, да и работать-пахать нам, стройбатовцам, зачастую приходилось с гражданскими бок о бок, плечом к плечу, грудь в грудь. А мне к тому же удалось на втором году службы пристроиться вообще на офигенное место – дежурным сантехником в городское жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ). Работа-дежурство в три смены по скользящему графику, свободное одиночное хождение по городу (для солдата – роскошь неимоверная!), вызовы-визиты в квартиры порой совершенно одиноких гражданок…
Одним словом, создались все условия для нескучной жизни. Но признаюсь, никогда меня трах-тибидох сам по себе – для количества, ради здоровья, от скуки – не манил. Мне обязательно хотелось чувства, огня, отношений, романа – с завязкой, развитием сюжета, кульминацией и с надеждой, что развязки-разрыва, может быть, не будет…
Люба (поначалу, конечно, Любовь, что ли, Владимировна) работала мастером ЖЭУ – нашей, дежурных сантехников, непосредственной начальницей. Было ей лет двадцать пять, она имела мужа-экспедитора и сына четырёх лет. На внешность Люба была ну очень миловидная: улыбчивая ласковая шатенка с карими восточными глазами, ямочками на щеках и чуть крупноватая телом. При взгляде на неё невольно вспоминалось описание сестёр Епанчиных в «Идиоте» Достоевского: «Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками…»
Как раз вот это да ещё четыре года разницы в возрасте, может быть, и стали самым сильным манком для меня. Женщина, матрона! Я всегда робел таких и никогда бы не решился, что называется, первым и по своей инициативе приблизиться-прислониться к Любе. Но так получилось, что мы с ней на работе начали общаться-болтать в свободное время, шутить и смеяться, и я в один из обеденных перерывов, когда мы с Любой остались в помещении одни, ради хохмы же, подсунул ей листок с виршами, кои сочинил за полчаса до того, обмывая чресла свои в подвальном душе.
Я ношу солдатские погоны,Подчиняюсь я бесчисленным приказам.Все, кто старше в звании – бароны:Чуть ослушаюсь, я сразу же наказан.Но заметил вдруг, что стало легчеМне терпеть лишенья этой жизни,И придирки вроде стали мельче,А друзья мне стали вроде лишни.Изменилась жизнь, как в детской сказке —Стал вдруг мир и радостен, и светел…Догадалась ты, наверно, без подсказки?Радостным мир стал, когда тебя я встретил.
До этого я лишь однажды пробовал рифмовать, послал получившийся стихотворный опус в районную газету, где уже опубликовали мой первый рассказ, и получил суровый отлуп от завотделом писем: стихи – это не твоё, Николай, пиши лучше прозу. Повторяю, я зачем-то решился встать вновь на тернистый путь стихотворца только по одной причине: это же не серьёзно, для хохмы, для поддержания общения с милой симпатичной молодой женщиной…
Люба не отрывалась от моего листка минуту, вторую. У меня уже и ёрническая улыбка на лице истоньшилась-стёрлась. Люба наконец подняла странно блестевший взгляд, проникновенно-грудным голосом выдохнула:
– Спасибо!
А дальше всё пошло-покатилось по совсем неожиданному и головокружительному сценарию. Я вдруг оказался рядом с Любой, она, продолжая сидеть, запрокинула-подставила мне лицо, я наклонился, приник к её губам…
И как специально, муж её в эти дни находился-обитал за тридевять земель в командировке, сын гостил у бабушки. В следующий вечер я уже был в гостях у Любы – с бутылкой шампанского, коробкой конфет и дрожью во всём теле. Как всегда при такой скоропалительности, были излишние и страшно досадные напряжение, неловкость, стыдливость. Но и – горделивая радость, не могущая не быть при каждом первом обладании новой женщиной…
В следующую свою смену я, конечно же, принёс новые «стыхы»:
И вот мы остались одни.Лишь мы и – огромная ночь.Что же нас так роднит?Любовь не могу превозмочь.Ты белое платье сними,Ведь мы теперь – муж и жена!Скорее меня обними…Всё кружится, как от вина…Навек теперь счастье нам,Навек мы теперь одни!Безбрежной любви храм —Вот что с тобой нас роднит!..
Не слабо, а? Особенно про «мы теперь – муж и жена»…
Вирши я начал строчить-сочинять каждый день да по нескольку штук. Некоторые, впрочем, получались даже и не совсем хилыми. Я их впоследствии презентовал некоторым героям-стихоплётцам в своих романах и повестях.
А наш роман с Любой стремительно развивался и прогрессировал. Сохранились милые фотографии, где мы сняты у подъезда нашего ЖЭУ втроём: Люба, её сынишка и я, судя по физиономии – вполне влюблённый солдафончик в пилотке. Причём, пацанчик сидит у меня на коленях, обняв за шею. Люба, не выдерживая даже двух дней без встреч, писала мне в казарму чрезвычайно нежные и страстные письма:
«Здравствуй, хороший мой Человек!
Коленька, как мне плохо без тебя! Сегодня в 10 часов я приду и сяду на нашу скамеечку. Если ты будешь там – значит, я самый счастливый человек на свете. А если нет? Отправлю письмо и буду ждать встречи с тобой, чтобы взглянуть в твои глаза и набраться сил. Ты же знаешь, как много сил душевных мне сейчас нужно. Если бы ты знал, как я благодарна судьбе за встречу с тобой. Теперь мне хочется жить, теперь я верю, что счастье и любовь всё же существуют на свете.
Я люблю тебя, Коленька! Наверное, всё-таки получилось так, что я сказала, вернее, написала эти слова первой. Читала я где-то, что горе можно скрыть от людских глаз, а счастье невозможно. И пусть знают все! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
А ты молчишь, ты ничего не говоришь. Только стихи. Не обижайся, пожалуйста, но там же неопределённость. А вообще стихи твои мне помогают очень, они наполняют меня этими самыми душевными силами.
Ну вот, всё главное я тебе сказала. Набор слов и мыслей моё письмо, да?
Люба».
Естественно и само собой, у нас начались разговоры-обсуждения о дальнейшей совместной жизни – Люба к тому времени окончательно разочаровалась в муже. Сохранились мои соответствующие и упаднические, да ещё и с атеистическим привкусом стишки:
Наверное, нам счастья видеть не дано.Тому причины есть, ты знаешь их:Ты замужем уже давным-давно,А кто теперь рассудит нас троих?Что Бога нет – все знают, знаешь ты,А на людей тем более надежды нет,И чтоб не умерли бесследно все мечты,Лишь только мы вдвоём должны найти ответ.Но это громко сказано – «вдвоём»,Ведь всё зависит от тебя одной:Как дальше – врозь иль вместе мы пойдёмИ суждено ль увидеть счастье нам с тобой.
Но, судя по всему, я поторопился весь груз ответственности за наше общее счастье возложить на Любины плечи. Она как раз уже готова была сделать решительный шаг и писала мне в очередном горячем письме:
«Коленька, хороший мой, здравствуй!
И кто придумал эти выходные – целых два дня? Ужасная эта пытка – не видеть тебя. Постоянно думаю о тебе, разговариваю с тобой в мыслях и, наверное, скоро буду по ночам кричать твоё имя. Теперь ты полностью во мне – и ночью, и днём. И когда я смеюсь, и когда плачу.
Написала несколько строчек и опять сижу думаю-думаю. Что-то дальше у нас с тобой будет? А я ведь почти стала забывать, что есть на свете любовь – самое прекрасное, чем может быть награждён человек. А вот и меня наградили любовью. Я люблю и очень счастлива. А ты можешь в этом сомневаться? Хотя я понимаю тебя: всё то, что происходит в моей семье – наводит на такие мысли. Только ты пойми, если бы не ты, я не стала бы разводиться с мужем. И ещё пойми, только правильно: я развожусь с ним не из-за тебя, а БЛАГОДАРЯ тебе.
Знаешь, а он всё понял. Сегодня он сказал: “А ты всё-таки полюбила…” И это был уже не вопрос, а утверждение.
Милый, хороший мой, всё-таки счастлива я. А принесу ли я тебе счастье?
Ну вот и всё.
Люблю! Целую! Я».
Кто знает, может быть, и вправду мы бы с Любой сошлись-слюбились, попробовали после моего дембеля совместной семейной жизни, если бы не появилась вдруг и неожиданно в судьбе моей Маша…
Наша последняя встреча с Любой была ужасной. Я за несколько дней до отъезда домой, замаскировавшись в гражданские шмотки лейтенанта-замполита нашей роты (мы с ним приятельствовали), пьяный в дупель, зачем-то припёрся в подвал ЖЭУ, поманил Любу в укромный уголок и что-то долго гундосил-бормотал ей про свою вину и просил прощения. Сквозь хмельную муть и головную боль впечатались в память бледное лицо Любы, её потемневшие от боли, обиды и неизбывной тоски глаза…
Господи, ну разве я виноват?!
9. Маша
Маша – это солнечный удар, это обморок, это томительно-сладкий сон.
Воспоминания о ней настолько ярки, что не могли не вылиться на бумагу. Правда, на заре своей писательской юности, потея над первой своей объёмной вещью – автобиографической повестью об армейской службе «Казарма» – я почему-то о Маше упомянул вскользь, не решился откровенничать и выставлять напоказ нашу жаркую любовь, но имя сохранил подлинное. (Ну никак она у меня с другим именем не сопрягается!) В повести герой, комсорг роты, в финале решается на своеобразный для того времени и той обстановки подвиг – прочесть на комсомольском собрании честный отчётный доклад об армейской жизни в казарме (слова «дедовщина» тогда ещё не было, но сама дедовщина о-го-го какая была!). И вот он просыпается в утро «стрелецкой казни»:
…Но сознание всплывает постепенно из глубин моего я, и сон, растворяясь, распадаясь на отдельные молекулы-картинки, впитывается в мозговые клетки памяти. Я тянусь-потягиваюсь с таким энтузиазмом, что откликаются хрустом все суставы и суставчики моего дембельского тела, скрипят железные растяжки жёсткой солдатской кровати.
Отворяю глаза.
Позднее октябрьское солнце последним всплеском жарости продолжает сквозь стёкла греть моё лицо. Я тру веки костяшками указательных пальцев, сажусь на постели, окончательно материализуюсь в сегодняшнем дне и вспоминаю – Маша! Вчера она сказала мне, задыхаясь от поцелуев: «Неужели ты не понимаешь? Я не хочу, чтобы ты уезжал!»
Маша!..
И уже в самых последних строках повести тень Маши появляется-возникает вновь: