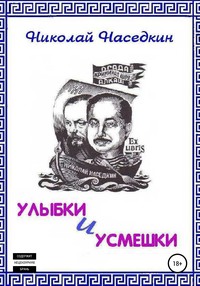Полная версия
Гуд бай, май… Роман-ностальжи
Я жадно обхватил её здоровой рукой и приник к губам. Лида сначала чуть замялась (на кухне Тамара Петровна гремела посудой), но потом ответила, открылась, впустила меня.
Видимо, за сутки я резко помудрел и повзрослел, вспомнил секс-грамоту, и в этот вечер всё у нас с Лидушей получилось классно и замечательно…
А потом я достал и раскрыл тетрадку-дневник, который вёл в последние полгода нашей с Галочкой любви и где подробно описывал наши ласки-обжимания, так что постороннему читателю могло показаться, что всё-всё у нас с Галей было и получалось, и дал этот дневничок Лиде – сильнее боли в руке кровоточила рана в сердце, что она считает меня за мальчика-несмышлёныша. Ну а про московскую Галину не мог же я ей сказать-открыться – почему-то было ужасно стыдно. Пусть уж думает, что я с Галей впервые всё испытал-попробовал…
И вот началась моя почти что семейная жизнь. Я иногда по две-три ночи (чаще на выходные) ночевал у Лиды, спал с ней в одной кровати. Тамара к этому относилась вполне благосклонно, считая, что если сестрёнка счастлива – то остальное не важно. Белобрысый Сашка звал меня «дядь Колей» и буквально прилипал, когда я появлялся. От Надежды мы с Лидой нашу любовь скрывали: она, почуяв эту связь-любовь, категорически воспротивилась – мол, он (то есть, я) ещё совсем мальчишка, ему в армию скоро, а Лиде надо искать мужа и отца для сына… Тоже мне, благодетельница-печальница – свою семейную жизнь устроить не сумела, а других учит! Пару раз, когда Надежда Петровна нежданно заявлялась-заглядывала рано утром к Тамаре Петровне, мне приходилось, схватив одежду в охапку, из тёплой постели нырять под кровать и там отлёживаться-хорониться.
Это было благословенное лето! Я и правда уже подумывал о женитьбе, об усыновлении Сашки, о тихой, мирной семейно-строительной жизни. Мы с Лидушей не только осчастливливались в постели, но и гуляли по вечерним сельским улицам, забирались по воскресеньям в глубь леса, ездили порой в Абакан – поесть-выпить «по-киношному» в ресторане и вообще подышать городской чужой жизнью. А какие чудесные вечера и ночи проводили мы с ней на чердаке Тамариного дома, где хранилось сено для коровы! Я уж не говорю о том распиравшем меня чувстве гордости, с каким ходил я по стройплощадке, сидел в рабочей столовке вместе с Лидой на глазах у всех: у меня такая взрослая и такая пригожая подруга! Мне казалось, все на нас смотрят-любуются и нам завидуют…
И сплетали-расплетали мы наши молодые горячие тела в то лето без устали – поглощали друг друга, растворялись друг в друге и не могли насытиться. Но со временем в этом плане начало проявляться-обнаруживаться одно «но», которое, как тёмное едва заметное облачко на горизонте, предвещало грядущую перемену погоды, ненастье и грозу-разлучницу. Дело в том, что москвичка Галина не успела или не пожелала (а может, я сам не захотел) преподать мне очень важный урок на тему – «Оральный секс».
Надо сказать, что в те времена, по крайней мере в наших сибирско-сельских палестинах, слов-понятий «минет» и «куннилингус» не имелось вовсе. В кругу сверстников, когда возникала эта тема, первый термин заменялся сподручными синонимами «зá щеку» и «в рот», ну а второй и вовсе был без надобности, ибо то, что он обозначает, вызывало у всех нас только брезгливость, презрение и осуждение. Как можно такое делать?! Помню, тот же Филиппок рассказывал, кривясь от омерзения, как один наш общий знакомый парень, только что вернувшийся из тюряги, выпрашивал у одной тоже известной нам девахи «дать разок», а та поставила условие: «Полижешь – дам!» И парень этот согласился! Филиппок от гадливости даже сплюнул. И мы, все его приятели-слушатели, тоже с отвращением сплюнули. Тьфу, лизать п…ду!
Ну так вот, вскоре я стал замечать, что Лида, во время предварительных ласк обцеловывая меня, как-то странно задерживается в районе пупка и ниже, как-то особенно бурно начинает дышать, касаясь щекой моего дружка, а порой и быстро, как бы украдкой скользит по нему губами, чмокает. Я каждый раз напрягался, уворачивался и даже отводил-отклонял её голову рукой. Однажды, правда, когда мы оба были после застолья, и ласки наши приобрели особо высокий градус, Лида настойчиво взялась обцеловывать-облизывать мой живот, а потом спустилась ниже и решительно обхватила губами мой член. Волна блаженства тут же захлестнула меня, предчувствие изумительного взрыва наслаждения вошло в затуманенный мозг, но я, дурень и остолоп, последним усилием воли встряхнулся, оттолкнул Лиду и даже вскочил с постели…
Она обиделась.
Кто знает, возможно, я бы уже вскоре постиг с Лидой этот лакомо-постыдный курс орального секса в полной мере, понял бы и впитал всю его головокружительную сладость, но Судьбе было угодно вмешаться, отправить меня в «академический отпуск» ещё на несколько лет.
Получил я очередную повестку в армию. До этого уже трижды пытались меня забрить, но каждый раз давали отсрочки по здоровью. В армию я, честно сказать, отнюдь не стремился, ибо мечтал, накопив двухгодичный трудовой стаж, необходимый для поступления на факультет журналистики, подать весной документы в Московский университет. Так что и на этот раз во время прохождения военкоматовской медкомиссии я жаловался на свой организм как только мог. Впрочем, у меня действительно к тому времени уже и желудок давал сбои, и позвоночник был повреждён, и два ребра, сломанные за полгода до того, ещё ныли-постанывали, и зрение минус три на оба глаза, не говоря уж о плоскостопии, по причине которого раньше вообще белым билетом награждали.
Однако ж наш майор-военком при мне отдал приказ прапорщику: этого призывника в армию отправить во что бы то ни стало – иначе, мол, сам за него в действующие войска отправишься! (Всё это я живописал подробно потом в повести «Казарма».) Таким образом, через районную комиссию меня протащили-проволокли чуть не насильно, не слушая мои охи-жалобы, но в области я, разозлившись и упёршись, заявил хирургу, что сломанные рёбра ещё здорово болят-ноют, так что по ночам даже спать не могу. Это, конечно, было преувеличением, гиперболой, но как раз в левой части груди, в месте перелома рёбер, у меня с рождения темнеет на коже большое – с ладонь – странное пятно, происхождение которого даже муттер мне не смогла или не захотела прояснить, так что областной хирург купился сразу и даже сделал выговор бедолаге прапору: дескать, как вы могли притартать на областную комиссию призывника, у которого даже синяк после серьёзной травмы не рассосался?!
Дома меня по приказу военкома бросили в камеру-палату больницы на капитальное исследование и лечение, дабы к будущему призыву я и пикнуть о своих хворях не посмел. И так получилось, что в ту же больницу (а она у нас и была одна – районная) и в то же время попал-загремел и Лидин Сашка – что-то у него там с животом случилось. В лечебнице мы с ним окончательно сошлись-подружились, и он даже пару раз, обмолвясь, уже назвал меня «папой». Да и то! Я буквально не отходил от него – кормил и рот салфеткой утирал, собирал его анализы в баночки и спичечные коробки, рассказывал на ночь сказки. Лида регулярно навещала нас, приносила вкусности обоим в одной сумке. И мои мать с сестрой, когда собирались меня навестить, знали уже, что надо прихватить с собой побольше сладостей. Раза два-три за этот месяц я поздними вечерами совершал побеги из палаты, пробирался в больничных тапочках и пижаме к Лидиному дому и нырял к ней в постель, доказывая очень интенсивно и бурно, что мужик я вполне здоровый…
Идиллия!
Но подводные течения грядущих драматических событий уже набирали силу и ход. Перед тем, как начался мой армейско-больничный долгий отпуск, к нам на стройку пригнали отряд «химиков» (условно осуждённых и условно освобождённых), и вот Лидуша моя, рассказывая о делах-событиях на работе, стала к месту и ни к месту упоминать какого-то «химика» Юру – водителя самосвала.
Мне это страшно не понравилось. И не зря! Как только я вновь вышел на пахоту, старшие мои сотоварищи-дружбаны строительные (а работал я уже в комплексной бригаде, и Лида со своим башенным краном – на нашем участке) мне тут же с плохо скрываемым наслаждением и показным сочувствием поспешили поведать, как она обедает с химиком Юрой (он тоже обслуживал нашу бригаду) в столовой за одним столиком, то и дело сидит в кабине его самосвала…
И начался мой ад.
Кстати, с Галей я горький вкус ревности в полной мере так и не распробовал, не вкусил. Там все эти отелловские страсти были больше головными, теоретическими. Ну, во-первых, не было чувства полного владения, ощущения абсолютного собственника, которое может сформироваться-возникнуть только после физического обладания любимой. А во-вторых, когда Галя ушла от меня к тому парнишке-ровеснику, они попались мне на глаза вместе всего дважды. Один раз, ещё в самом начале, когда сердце моё кровоточило свежей раной, и я всё ещё не верил в измену Гали, надеялся её вернуть, они припёрлись в субботу на танцы в Дом культуры. Сам я не кровожаден и драться никогда не любил (да и не умел!), но приятели мои во главе всё с тем же Колькой-Филиппком оскорбились за меня, выманили-вызвали на улицу этого Володьку и, как я ни пытался помешать, успели пару раз вмазать ему под дых и по скуле, однако ж он шустрее зайца сиганул от них прочь, забыв, по крайней мере на этот вечер, про Галю напрочь…
Конечно, горькую для меня ситуацию это не исправило, напротив, усугубило, и я вообще все свои отчаянные надежды и ожидания потерял, но с того вечера по крайней мере в клубе они вместе появляться перестали, а на улице я их встретил потом только один раз – скукожился, отвернулся, прошёл мимо…
Одним словом, правило довольно простое: чем реже видишь свою неверную любимую счастливой и с другим – тем меньше страдаешь.
Теперь же, на стройке, ситуация сгустилась до предела, ибо всем нам, участникам-созидателям пресловутого любовного треугольника, приходилось долгий рабочий день находиться в едином пространстве, жечь свои нервы, томиться и полыхать. Сейчас, спустя жизнь, я понимаю, что тяжче всего приходилось в те дни Лиде. Нормальному человеку и вообще легче быть брошенным, чем самому бросать-предавать, да ещё и мы с этим химиком Юрой (к слову сказать, плотным здоровым парнем, лет на десять старше меня) страстно тянули её каждый в свою сторону, а она, бедная, разрывалась, никак не могла отлепиться-оторваться от меня, но и с этим самосвальщиком всё у них уже слишком далеко зашло, сладилось и слюбилось. Она ещё раза два-три допустила меня до своего тела, но уже явно ощущалось-чувствовалось – из жалости, из-за чувства вины, на посошок…
Повторяю, я не любитель разборок-драк, но от тоски и отчаяния я даже попёр в дурь – наскочил на этого бугая в нашей сельской пивнушке. Он осмелился подарить Лиде (моей Лиде!) кулончик серебряный, я этот кулончик с шеи Лиды сорвал накануне вечером в постели, и вот здесь, в пивнушке, где мы были только вдвоём с другом-товарищем Сашкой, а Юрий этот стоял в плотном кругу своих друганов-химиков, я нетвёрдой походкой (разливного вермута и пива с водкой было принято немало) продефилировал в «химический» угол и швырнул цепочку с кулончиком в морду сопернику:
– Друг, не надо чужим жёнам подарки дарить!
На моё счастье, соперник мой сдержался, хотя и побагровел, – не размазал меня по стенке. А хотел (как признался потом Лиде, а она рассказала мне), но решил с «пьяным пацаном» не связываться, да и побоялся Лиду этой дракой обидеть-оттолкнуть… Впрочем, я думаю, что всё же основная причина была в другом: химики ещё чувствовали себя в нашем селе чужаками и на открытый конфликт с аборигенами пока не решались.
Известно, надежда умирает последней. А уж у больного любовью – тем более. Я всё ещё за что-то цеплялся, не оставлял Лиду в покое, всё выяснял отношения, просил и умолял вернуться к прежней совместной счастливой жизни. Тем более, что любимая моя на все мои ревнивые грубые вопросы и требования правды отвечала уклончиво, уверяла вяло, будто они с этим Юрием всё ещё «просто товарищи и друзья». Наконец я наскрёб по сусекам души силы воли и решил проявить-повести себя мужиком: объявил Лиде полный бойкот – на работе избегал её, на выходные дорогу к её дому забыл…
Хватило меня на неделю. В субботу, глотнув стакан портвейна для куражу, примчался я на улицу Строителей. Тамара Петровна, уводя взгляд в сторону, огорошила:
– Сестрёнка уехала в гости в соседний район.
– В какие гости? К кому?!
– К родственникам, – промямлила уныло Тамара свет Петровна.
Всё же я ей нравился и врать ей не хотелось.
Еле-еле дождался я понедельника. Перехватил у подножия крана Лиду. Она явно поскучнела, увидев меня, покраснела, потупилась.
– Лида! – выдохнул я.
– Коль, – она умоляюще глянула в самоё мою душу, – давай не будем сейчас! Вечером… Приходи – поговорим…
Я ещё попытался было приблизиться к ней после столовки, где она сидела с сестрой Надей, но только вышел вслед за ними на крыльцо – подкатил ненавистный голубой «ЗИЛ»-самосвал, и Лидуша моя впорхнула в кабину…
Где бы найти того Бунина или Кафку, чтобы описать моё состояние, в каковом пребывал я до этого самого вечера!
Дома торопливо сполоснулся, опять хлебнул портвейна, взял-купил бутылку с собой и полетел на это (я уже предчувствовал) убийственное свидание со своей любушкой. Лида, упакованная наглухо в брюки и свитер, встретила меня с виноватой ласковостью, соорудила лёгкую закуску, мы с ней сели в нашей комнате, выпили, я, прожёвывая солёный огурец, обкатывал-сглаживал в уме первый вопрос, но Лида, вытерев полотенцем руки, взяла с подоконника уже раскрытую общую тетрадь, положила передо мной, ткнула пальцем в строки и жалобно сказала:
– Я больше так не могу… Читай!
– Что это? Ты прозу начала писать?
Забыл упомянуть, что Лида пробовала писать стихи, я к тому времени уже опубликовал в районной газете два рассказа, так что вопрос был вполне к месту.
– Если бы! Нет, я тоже начала вести дневник… Читай!
То, что я прочёл, было чудовищным:
…Мы с Юрой ездили на выходные к его родителям. И матери, и отцу я, кажется, понравилась. С Юрой было всё так замечательно! Мы спали в одной постели, совсем как муж и жена. Он такой сильный, такой неугомонный – от его ласк я буквально схожу с ума…
Я закрыл тетрадь, положил её на тарелку с картошкой, встал, вышел в прихожую, обулся, надел куртку, нахлобучил шапку и вывалился за дверь. Никто меня не останавливал, не упрашивал остаться.
Нажрался я так, что не помнил, как очутился дома. Все последующие события той ночи остались в памяти клочками и туманно. Я сижу на кровати в своей узкой неуютной комнате, весь пол подо мною ал и липок от крови… Жуткий вскрик матери… Женщина в белом халате… Мне туго забинтовывают левое запястье… Я бегу по ночным улицам… Меловое лицо Лиды в проёме двери… Обжигающая боль, когда я срываю бинт с руки и сую-выставляю напоказ окровавленную руку… Лидины рыдания …
Теперь иногда я смотрю на левое запястье, на пять белых полосок-следов от лезвия бритвы, и сам себе усмехаюсь – и горько, и светло: ну и дуралеем был я в юности!
Месяца через полтора, аккурат на Новый год, они сошлись-поженились. В марте Юрий освободился и умчался в Красноярск, где он уже и жил-работал до ареста, – обустраиваться, готовить жильё для семьи. Лида ещё дорабатывала на нашей стройке последние дни. Я при встрече молча кивал ей головой и проходил мимо. Она первое время заглядывала мне в глаза, словно пытаясь остановить, поговорить, пообщаться, однако потом тоже внешне успокоилась.
Но однажды она сама подошла ко мне, смущённо улыбнулась:
– Коль, прости, я – с просьбой… Ты не мог бы ещё раз дать мне фотоувеличитель? У меня скопилось три плёнки – хотела фотки напечатать…
– Могу, – хрипло пробормотал я. – Когда?
– Да хоть сегодня, часов в восемь… Хорошо?
– Ладно, – пробурчал я, боясь обмочить штаны от нежданной радости.
Вечером с коробкой в руке, чинно, совершенно трезвым, явился я в полузабытый дом. Тамара Петровна и ребятишки мне обрадовались (а Сашка особенно – аж взвизгнул и на шее повис), чаем угощать начали. Затем мы закрылись с Лидой в её комнате, создали непроницаемую темноту, затеплили тусклый красный фонарь (символ распутства!) и начали, сидя на стульях плечом к плечу, печатать-проявлять фотографии. Лида была всё в том же выцветшем халатике, родной женский запах её не могли заглушить даже терпкие ароматы химреактивов. Справа от нас у стены громоздилась постель, на которую я смотреть не решался, но не потому, что не хотел вспоминать-представлять счастливое наше прошлое, а потому что боялся представить-вообразить ненужное их настоящее…
Признаюсь, уж такой я тюфяк (по крайней мере – тогда был!), что никаких конкретных планов на этот вечер не строил и поползновений нескромных предпринимать не собирался. Хотя, само собой, весь томился и пылал. Так бы и просидел весь вечер напряжённым скукоженным обалдуем, как вдруг Лида, со натянутой улыбкой, пробормотав: «Фу, жара какая! Я уж мокрая вся…» – расстегнула и скинула халатик, оставшись в лифчике и трусиках. Я очумел. Она опять уткнулась носом в ванночку с проявителем, сосредоточенно шевелила пинцетом фотобумагу. Когда столбняк чуть отпустил меня, я собрался с духом, решился и положил горячую ладонь на её влажную спину. Молчание. Я подобрался пальцами к застёжке, вопросительно потеребил её. Молчание! Тогда, уже окончательно врубившись в ситуацию, я схватился обеими руками, справился с крючочками. Лида, не отрываясь от дела, повела плечами и, высвобождая одну за другой руки, помогла мне освободить себя от бретелек…
Сначала в горячке, нервном напряжении первой близости я подумал было, что всё у нас с Лидой возвращается на круги своя, но затем, когда мы, чуть отдохнув и почти не разговаривая, и второй раз сплели-соединили наши тела – уже без спешки и суеты, оба переполненные тёплой грустной нежностью – я ясно и окончательно понял-осознал: это – прощание навсегда…
Так и случилось.
* * *Лет шесть назад я получил из Красноярска письмо. Лида, вернее, теперь уже точно Лидия Петровна, сообщала, что побывала в нашем родном селе в гостях, зашла в редакцию районки, где я когда-то публиковал первые рассказы, восхищавшие её, Лиду, а потом, после армии, и работал, порасспросила обо мне и узнала адрес. Она страшно рада моим «писательским успехам», гордится мною, горячо помнит всё, что у нас с нею было почти тридцать лет назад и надеется на ответное письмо и хотя бы одну книгу в подарок с дарственной надписью…
Конечно, я ответил, назадавал кучу вопросов, отправил две свои свежие книги. Лида в ответ прислала тысячу спасиб, сообщила, что живёт с тем самым Юрием, вырастила детей, уже готовится стать пенсионеркой, поэтому (вот опять женская логика!) мою просьбу о фото выполнить не может – хочет остаться в моей памяти той, 23-летней…
Я, заглянув в себя, тоже понял-осознал вполне, что хочу помнить её именно такой. И – больше не писал.
Сейчас, попытавшись найти эти два Лидиных письма, дабы включить их в текст мемуара, я с огорчением убедился-понял, что не сохранил их, но зато обнаружил трогательный листок бумаги из тетради в клетку, покрытый крупными округлыми буквами, составляющими стихотворные строки, и с датой внизу – 30 июля 1972 года. И сразу – высверк в памяти: первый наш поход в выходные в лес на берег реки – я умолил её полностью раздеться-обнажиться. И вот она, смущённо улыбаясь, лежит на подстилке, светится в лучах полуденного солнца, я стою над ней, ненасытно смотрю-любуюсь и не могу насмотреться…
А вечером она вручила мне листок-подарок:
Ты захотел меня увидетьНагую в солнечном светуИ обласкать своей любовьюПростую женскую красу.Перед тобою, словно Ева,С улыбкой горечи в губах…Нагое тело извивалосьВ твоих ласкающих руках.Над нами небо голубело,И ты, пьянея от вина,Чуть-чуть смущаясь и робея,Просил, чтоб стала я твоя.На ласку лаской отвечая,Забыв на свете обо всём,В одно единое сливались,Растя в объятиях любовь.Конечно, как сказал бы какой-нибудь новоявленный Добролюбов – это ниже всякой эстетической критики. Пусть! Но мне лично эти неловкие наивные стихи дороже всех ахматовских и цветаевских шедевров вместе взятых.
Ах, Лида, Лида!..
7. Фая
Итак, только начав своё путешествие в чародейственную страну чувственной любви, я уже в самом начале был дважды подряд предан-брошен женщинами, и в обоих случаях моих бывших возлюбленных поглотил далёкий ещё неведомый тогда мне Красноярск.
Странные совпадения и тенденции!
Мало того, они на этом не закончились, но приобрели (вот диалектика, блин!) плюсовой оттенок. Дело в том, что среда «химиков», отнявшая-укравшая у меня Лиду, вдруг взяла и, можно сказать, компенсировала утрату…
То, что случилось вскоре, было настолько неожиданным и ярким, что не могло не отразиться в моём творчестве. И отразилось – в повести «Муттер». Имя героини – подлинное; себя я в этой, в общем-то автобиографической, повести зачем-то именую Сашей.
…Но тут затеплилось в моей судьбе странное любовное приключение, чуть не разгоревшееся в яркий костерок.
Окончив школу, пахал я уже в РСУ плотником-бетонщиком. Строила-достраивала наша бригада двухэтажное общежитие рядом с конторой стройуправления, прямо в степи, километрах в шести от села. Сначала зашелестели слухи, а потом, ближе к новоселью, они и подтвердились: грядёт на Новое Село вторая волна эмиграции. Первая волна нахлынула лет за шесть перед этим. Тогда в Новом Селе (и по всей Сибири) закишели, как тараканы, бойкие, наглые, испитые людишки обоего пола, именуемые тунеядцами. Благородная наша эсэсэсэровская столица, избавляясь от паразитов, посчитала, что самое место им обитать – у нас, в чистой промороженной Сибири. Матушка Сибирь с высоты Московского Кремля гляделась, вероятно, этакой человеческой свалкой.
Встречались среди тунеядцев и вполне нормальные люди, работящие и спокойные, попавшие в сей разряд по недоразумению – тогдашние бомжи. Они осели в Новом Селе, прижились, заделались вполне местными, аборигенились. Но таких было мало. В массе же своей тунеядцы оказались пьянью, чумой, а вернее гонореей, воспалившей худшие стороны местной действительности до зловония. Пьянство, разврат, воровство, поножовщина – все эти лиходейские цветочки расцвели пышным цветом с приливом первой мутной волны эмиграции, с появлением же второй ожидались и ягодки.
А волна на этот раз принесла «химиков». Так именуют в народе преступников, условно осуждённых или условно освобождённых, которых для дальнейшего исправления бросают на так называемые стройки народного хозяйства. И жизнь новосельскую опять залихорадило. Химики в отличие от тунеядцев оказались в массе своей юными, здоровыми и буйно жизнерадостными. Хотя их и держали в куче, опутывали дисциплиной, присматривали за ними два-три «мусора», – но молодость оков и границ не терпит. «Свят, свят, свят!» – крестились новосельские бабуси, глядя с лавок на шастающих по улицам чужих парней и девок, которые казались им шумнее и опаснее местных хулиганистых ребят.
В нашу комплексную бригаду всунули трёх химичек на малярно-штукатурные работы. Я загодя решил с этими оторвами держать себя пренебрежительно. Что может быть общего между мною, свободным гордым человеком, и этими вшивыми зэчками?..
Среди них была – Фая. Увидев её, я присвистнул и поскучнел: она принадлежала к тому типу юных женщин, перед которыми я терялся – субтильная, утончённая красавица. Она была рыжая, с веснушками, и эти лёгкие обильные веснушки в соседстве с распахнутыми зелёными глазищами на точёном нежном лице делали внешность Фаи притягательной и неповторимой. Была она тоненькая, гибкая, казалась выше своего роста, плавно-стремительная. И – весёлая, ласковая, улыбчивая. Да плюс ко всему выделялась среди товарок тем, что не курила и почти вовсе обходилась без терпких мусорных словес.
Короче, какое уж тут пренебрежение! Была Фая всего года на два постарше меня, совсем ещё девчонка, и попала на химию, как я потом узнал, из-за любви. Мужик – взрослый, солидный, семейный – попользовался ею, шепча жаркие слова и одаривая цветами, а потом вдруг оставил, отшвырнул. И получил от ополоумевшей Фаины порцию серной кислоты в лицо. Правда, до лица, до его самодовольной ряхи, огненная жидкость не достала (думаю, таков и расчёт девчонки был), подпортила лишь пиджак с депутатским значком, однако ж Фаю скрутили, судили и сослали с благодатной Украины в краесветную сибирскую Хакасию.
Я, конечно, никогда бы не решился закрутить с такой гёрлой, как Фая. Да и ей на первых порах после сернокислотной истерики не мечталось о новых любовных приключениях. Но натура её жизнерадостная брала верх, но моя томительная одинокая юность подталкивала меня, щекотала, и мы с Фаей как-то незаметно, слово за слово, улыбка за улыбку, начали сближаться, сливаться, воспламеняться – гибнуть. Сердце и тело мои супротив доводов рассудка тянулись к красавице Фае. И всё же я, вероятно, так и не отчаялся бы на крайний решительный шаг, если б не пустяковина, не малюсенькая случайная искорка, взорвавшая меня, переполненного эфирными парами чувственности.