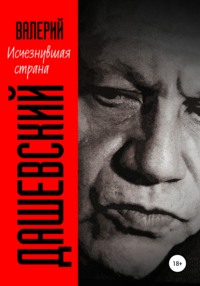Полная версия
Город на заре. Сборник рассказов
Розенберг подошел к сараю, убедился, что он закрыт и направился к своему семейному участку. Участок располагался в начале четвертой аллеи, у увитого диким виноградом фигурного забора, над обрывом, вдоль которого проходил Журавлевский спуск – дорога к Журавлевке16, бывшей окраине в пойме реки; одноэтажные дома в низине были скрыты солнечной дымкой, повисшей над дорогой. В узкий проход вдоль забора обыкновенно складывали ветви и сучья, но теперь ели вплотную подошли и к забору, и к участку. Из их сумрачной сени тянуло сыростью. Соседние могилы тоже были заброшены: дети похороненных здесь людей, если и были живы, то состарились сами.
Он прошел, разглядывая знакомые, треснувшие кое-где памятники, замшелые могильные плиты, от которых веяло кладбищенским покоем, как от солнечных полян у ворот, высеченные фамилии, которые не хранила память, но узнали глаза, и остановился перед своим семейным участком. Ограда была крашена черным, внутри стояла большая надгробная плита из гранита; на ее отполированной поверхности были выгравированы фамилии и даты – рождения и смерти – деда, которого он не застал, бабушки, матери и отца. Под фамилией матери была сделана надпись, сочиненная отцом: «Спи спокойно, наша любовь, наше счастье, наша радость!», под фамилией отца – надпись, которую оставил он сам: «Спи спокойно и ты, мой добрый и храбрый отец».
Он размотал обрывок целлофана, которым был обмотан замок, сунул его в карман плаща, открыл калитку, вошел, аккуратно положил на декоративную железную скамью, приваренную к ограде, розы в намокшей газете, купленные по дороге. Затем подошел к камню, прильнул губами к выщербленному краю.
– Здравствуйте, – сказал он. – Бабушка. Мама. Отец. Простите, что долго у вас не был.
Он постоял, опершись о камень, помаргивая и гладя на солнечную листву вдоль аллеи. Затем посмотрел под ноги на желтый кладбищенский песок и декоративную клумбу, в которой, как и вдоль ограды, были высажены медуница, незабудка, папоротники, аквилегия. Присев на корточки, он достал из-за камня две обрезанные до половины пластмассовые бутыли, тряпки, сходил к воротам за водой, оставив ограду открытой. Вернулся, протер полированную поверхность камня, – вырезанные буквы потемнели от влаги, – засунул за камень одну бутыль и тряпки, во вторую поставил цветы; сел на скамейку ограды, отдышался, достал из кармана плаща бутылку, отхлебнул и спрятал назад. Потом посмотрел на дорогу и в зелень над головой, на светотень, игравшую в прозрачном воздухе.
– Я посижу тут с вами, – сказал он. – Мои дела, вы, я думаю, знаете. Детей у меня нет, денег – тоже. Какие-то есть. – Он засмеялся. – Ни денег, ни детей! Ну и ладно. Я же не говорил, что умею жить. Я в Израиле, с темнокожей, ее зовут Гили Шараби. Мне б рассказали, не поверил бы!
Он замолчал и привалился спиной к ограде, следя за игрой солнечных пятен и теней, в которую перешли те, к кому он обращался. Через день после похорон он позвонил санитарке, ухаживавшей за отцом, и отдал ей для мужа не надеванные ни разу отцовское пальто, костюмы, туфли и рубашки; два заношенных до блеска костюма, в которых отец ходил на завод в последние годы, он вынес во двор и сжег вместе с десятитомным справочником по машиностроению, – который отказались взять в институтскую библиотеку, – с грудами других книг, альбомами, чертежами, кальками. Он не хотел, чтоб в этом рылись чужие, а, верней, потому, что стихия огня, пламени, очищения воплощала для него идею чистого освобождения духа, отягощаемого плотью, тлением; отец, мать, бабушка были кремированы, и урны захоронены, прикопаны; их прах упокоился тут, возле останков деда. Себе он оставил из вещей отца кронциркуль, американскую логарифмическую линейку, которой отец страшно дорожил, и его кошелек, женский, маленький, в который мать клала каждое утро деньги на обед и на трамвай. Потому что ему никогда ничего не было нужно, подумал он привычно, спокойно, как о том, что принял безоговорочно, смирившись раз навсегда. Мы не рождаемся быть счастливыми и не способны научиться жить, и с этим ничего не поделаешь. Мы просто не умеем по-другому. Мы даже сбежать не умеем.
Он посидел еще немного, без мыслей, чувствуя на лице ветерок; открыл глаза, собираясь встать, и внезапно листва над головой изменила цвет, выцвела, точно просвеченная рентгеном, став радужно-чернильной, полупрозрачной в ревущей черноте; потом цвета вернулись, и грудь пронизала боль такой силы, что он выгнулся дугой. Нечеловеческим усилием, вцепившись в ограду, хрипя, он повернулся, чтобы позвать на помощь, но дорога под обрывом была пуста, и только фура одолевала подъем в солнечном мареве. Пальцы его разжались, он повалился на песок, чувствуя его щекой и больше не пытаясь дышать, слыша сердце, забившееся, точно проколотая шина; затем он перестал чувствовать и лицо, и песок, и тяжесть своего тела; песчинки перед глазами стали размытыми, утратили очертания.
Розенберг возвращался домой.
Составитель примечаний
I
Вы и не посмотрели б в его сторону дважды – да кто посмотрел бы, хотела бы я знать. Разве что эта бестолковщина – его жена – то есть, бывшая жена, и бывшая студентка, потому как только студентки и способны на такое: пялиться на его очки и мечтать принести себя в жертву науке, молодому доценту или не пойми чему. А ведь еще надо жить жизнь, между прочим. Эта-то, господи спаси, она-то что могла знать о жизни и чему путевому ее могли научить отец с матерью в этой, прости господи, Костроме, или откуда там она была родом. Одно слово, приезжая. Тонкая такая, тощая. И тоже не от мира сего – так, по крайней мере, казалось, когда она прижимала руки к груди – или к тому месту, где обыкновенно у женщин грудь, и объясняла всем и каждому, кто готов был слушать – а слушали ее не то чтоб с удовольствием, скорей, с этаким хмурым интересом, с каким у нас, в Матвеевке, слушают пришлых, иногородних – какой он, ее Сережа, умный, прекрасный, образованный и уточненный. И всё это было ни к чему – я про ее объяснения. Она словно бы извинялась перед нами за то, что он такой – непьющий, некурящий, нелюдимый, знает какие-то там мертвые языки, латынь – да что латынь – древнееврейский, древнегреческий, и это нам было уж точно без толку. Нам-то на них не говорить. Пусть он и был учености немереной – нам-то от этого что? Спрашивается: ну что нам было до его учености, да до чьей угодно учености, когда всё это без толку, и никакого отношения не имеет к нашей повседневной жизни, когда прорастает картошка, ничего не достать, на базаре – один Кавказ, и все сидят по своим углам, и о том только и думают, чтобы не было хуже. Вот и она точно извинялась – и за него, и за себя – чуяла, должно быть, что нам он ни к селу, и ее, с ее слабыми руками и вечной тревогой в глазах, тоже, поди, не хватит надолго. Ну, присылали им припасы из Костромы или из Вологды, откуда к нам ее занесла нелегкая, но ведь они, поди, были бедны, как церковные мыши – Сереженьке ее надо было покупать какие-то книги, которыми их комнатушки, а были у них две, были заставлены до потолка, сесть-то там толком было негде. Она всё зазывала нас к себе – беременная, а потом – с грудным младенцем на руках, конечно, когда мужа не было. Но только ведь это было одно: есть он, нет – оттого, что вид у него был, как у хворого. Не как у помешанного, нет, но полностью отсутствующий, будто он общается с тенями или призраками на этих, мертвых-то языках. И все-то мне хотелось спросить: нашим-то, человеческим он пользоваться, часом, не разучился? Верите, она ему писала бумажки, когда посылала в магазин – и мне, вот крест, по сию пору странно, не то, что он их мог прочесть, а то, что не забывал их вовсе, стоя в очереди, в своей лыжной шапочке: в лице ни кровинки, всё бессонница, всё еженощные бдения за книжками, одет, конечно, так, что без слез не взглянешь, а ведь молодой-то мужчина. Если б он не то что бумажку – голову дома забыл, я бы не удивилась. Там, в его книжках, поди, было не написано, что у него – жена и сын. И – то ли он не прочел этого, то ли ему не сказали – но, похоже, он так и не узнал этого толком. Есть же такие – не от мира сего. Соберите его с книгами и лампой, перенесите за тысячу верст, и, клянусь, он не заметит, если, конечно, не крикнуть ему прямо в уши! Жаль мне было эту бедную Лизу, да как тут поможешь и чем? Это же с самого начала было ясно, что долго-то она не выдержит. И работа у него была странная: составитель примечаний. А звали его – Сергей Павлович. То есть, как я поняла, он в точности знал, что и когда сказал какой-нибудь там Плавт или Сенека – это я наслушалась от нее – ну, и когда печатали какую-нибудь книжку или полное собрание сочинений, до которых нам было дела ровно что до прошлогоднего снега, он писал к ней примечания да послесловия, так, кажется: и она нам показывала эти книжки – гордилась своим Сережей, значит, а по мне лучше бы попридержала у себя, чем злить людей его ученостью да начитанностью. Он-то с нами не говорил. Что ему, спрашивается, было разговоры разговаривать с нашим окраинным дурачьем, то ли дело плавты и сенеки. Не скажу, чтобы его ненавидели, вреда от него не было, как и проку – если он не отсутствовал в институте в своем свитере-самовязе, со своим ободранным портфелем, значит, квасился в четырех стенах, в своем закуте под лампой, всё молчком, обрастая пылью, или они выходили втроем – это, я вам скажу, было зрелище. Точно у этой Лизы было двое детей – один нормальный, живой малыш, а другой – великовозрастный переросток, как бы немой от рождения, щурился всё на фонари, точно вышел не из дому, а из лесу. А после – вскоре после того, как мы с ними разделили лицевые счета, больно много электричества жег ее составитель – она взяла мальчика и уехала. Мы думали – к родителям, в Кострому – Вологду или откуда она там взялась.
Это-то и было скверно. Всем нам, бабам, хочется путного мужика, чтоб жить за ним без головной боли, но была она чистый человек, просто молодая и слабая – сразу было видать по ее джинсам, ветровке, по глазам.
И ушла она не вдруг. Терпела, значит, сколько могла, может, из уважения к его большой учености – или боялась, что без нее он пропадет: кто ж ему будет писать записки, поди, небось, удивлялся всякий раз, что хлеб продается в гастрономе.
Но только он не пропал.
II
Нет, он не пропал и никуда не делся.
Больше скажу: года за два до ихнего развода у него обнаружился голос – низкий, негромкий, густой, как у нашего отца Никодима. Сынишка его был еще совсем сопливый, но Сергей Павлович порешил, что тот достаточно взрослый, чтоб ему давать первые уроки. Двери-то в нашей квартире – одно название. И вот, что ни вечер, нам было слыхать, как он ему зачитывал вслух про разных там героев древности, про полководцев и царей, а то часами говорил с ним на своей тарабарщине, поди, на древнееврейском, не иначе. И говорил с ним, как со взрослым (мальчик-то, понятно, молчал, только таращился на него через стол). А Сергей Павлович всё-то ему рассказывал, или зачитывал книжку в слух, и было в этом нечто неотмирное – ведь все эти цари да воители тысячи лет как истлели в прах; а раз из кухни мне было слыхать, как он сынишке перечитывает речь какого-то Ганнибала, сперва по-русски, а потом то ли на латыни, то ли на каком еще языке. Я тогда поманила Лизу на кухню и говорю:
– Что ж это твой творит, Лизонька? Он что, не видит, что мальчонка еще совсем шлепогубое дитя, чтобы не то что понимать – сидеть и слушать такое?
И тут увидела – Сергей Павлович в дверях.
– Вы, вот что, – говорит. – Знайте свои кастрюли.
Тут он был прав. Каждому свое, это верно. Самое-то странное было в том, что говорил он про это прошлое так, точно оно и было-то вчера вечером, будто не мог примириться, что оно кануло без следа и никакого отношения не имеет к нынешнему нашему житью-бытью – к электричке и свалке за осыпью, где в небе кружили вороны. Это я потом поняла, что он живет в нем, будто оно никуда не делось: прошлым и в прошлом, раз навсегда, как если б его приговорили к чему-то – великому и ненужному – к какому-то подвигу, что ли, о котором позабыли и люди и мир, а он знай себе нес эту память с гордостью, со смирением, зная, что она нам не нужна, но веруя, что понадобится, а если нет – нам же хуже. Много, доложу вам, лет прошло, пока я это поняла ясно. Да что говорить! Сочувствовала ему, есть ведь на свете одинокие души – и причина в том, что они одиноки, есть при них женщина или нет. И уж если он служил своему великому прошлому – книжкам да пустоте – то верой и правдой, не падая духом, не ропща, молчком, говорю я вам, в своем непреклонном одиночестве. Первое время она к нему наезжала – приготовить, постирать. И приводила с собой мальчика. Вышла-то она второй раз тоже в Москве. Нашла она свое счастье, нет ли, не имею понятия. Только уважала она его не меньше, а больше прежнего. Раз, когда он отсутствовал, она меня зазвала к нему показать, сколько книжек напечатано при его участии: литературные памятники, Тацит какой-то, Плутарх – он мне потом сам показывал, лет через десять. И тоже, как если бы они вышли вчера! Я к тому времени овдоветь успела, выдала дочь за хорошего человека в Митино. Они-то – Лиза с мальчиком – давно уже не навещали его; только я иногда помогла ему по-соседски. Так и время прошло, и прошла жизнь. Только он не изменился – или почти не изменился. Всё такой же был, высокий, сухопарый, с блаженным взором и лицом не от мира сего, точно завороженный зрелищем того, как какая-нибудь армянская конница в блеске да великолепии спускается на заре на равнину, где выстроились легионы Рима. Как-то разговорились мы с ним на кухне, и я говорю: – Сергей Павлович, не в обиду, оно ведь не нужно никому, кроме вас, да хранителей музеев, да вашим студенткам – до поры, до времени, пока не поумнеют и всё не перезабудут. – А он мне говорит: – Вы полагаете? Вы в церковь ходите, Любовь Николаевна? – Говорю: – Сравнил! Так ведь то церковь. – А он и говорит: – Ходите, стало быть. Стало быть, верите, что Христос был распят, и мученики претерпели за веру, и вам особой разницы ведь нет, вчера это было или тысячу лет назад, или в начале веков. То есть, иными словами, все эти деяния для вас были, есть и продолжаются во времени, так? – Говорю: – Ну. – А он и говорит: – А почему вы не думаете, что человеческая доблесть и добродетель также живы, как само слово или мысль – и Аристотель у себя в саду изо дня в день проповедует свое учение, потому что оно принадлежит вечности – не времени? Понимаете теперь? – И я говорю: – Вечности. Надо же. Но ведь не может же всё принадлежать вечности, а только самое важное, нужное, наверное? – Значит, понимаете, – говорит.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Эрвин Олаф (нидерл. Erwin Olaf Springveld) – известный голландский фотограф. Выставлялся в Европе, США, Канаде, Китае. Лауреат престижных международных премий в области рекламы и изобразительного искусства. Работы часто откровенно провокационны. Таковы серии «Royal Blood» («Королевская кровь», 2000) и «Mature» («Зрелость», 1999).
2
С фр. bourgeois bohemian – русская богемная буржуазия.
3
Синопсис – латинский синоним «conspectus» (конспект). Максимально краткое изложение съемки.
4
Руслан Лобанов – мастер современной эротической фотографии, Украина, Киев, фотограф с мировым именем.
5
Ходос Эдуард Давидович – писатель и публицист, украинский общественный деятель, в прошлом глава еврейской общины в Харькове.
6
Полянка и Крымский Вал – улицы Москвы.
7
«Печора», «Ангара», «Метелица» – названия кафе на бывшем Калининском проспекте (ныне Новый Арбат) в Москве.
8
Хабад, Хабад-Любавич (ивр. חב»ד – от «хохма, бина, даат» – мудрость, понимание, знание – названия трех верхних сфирот в__ Каббале) – иудейское религиозное движение, разновидность хасидизма, также называется любавичским хасидизмом. Призывает к служению иудаизму и исполнению законов Торы с радостью, которая возникает в результате интеллектуального понимания секретов Торы. К началу XIX века насчитывало около 200 000 приверженцев. В мире функционирует около 1350 организаций движения Хабад, включая школы и другие учреждения.
9
Харьковская хоральная синагога, архитектурный стиль – неоготика, мусульманский стиль, крупнейшая в Украине и в СНГ и вторая по величине в Европе после будапештской. Еврейское название – Бейт Менахем, центральная синагога и архитектурный памятник в Харькове, возведена в1912–1913 годы, была закрыта в 1923 году «по просьбам еврейских трудящихся». В ней разместили «Еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала», с 1941 года – детский кинотеатр. В 1945 году в синагоге возобновляется деятельность еврейской общины, однако в 1949 году ее закрывают и по осень 1991 в здании находилось Добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак».
10
Молитва «Пульса де-нура» – редчайшее в иудаизме смертельное проклятие, молитва на уничтожение.
11
Осада Мостара, Боснийская война. Мо́стар (босн. Mostar, серб. Мостар, хорв. Mostar) – город и община в Боснии и Герцеговине, административный центр Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины. 18 ноября 1991 года филиал Хорватского демократического содружества (ХДС) в Боснии и Герцеговине провозгласил существование хорватской республики Герцег-Босна на территории Боснии и Герцеговины. Мостар был разделен на западную часть, в которой доминировали хорватские силы, и восточную часть, где была сосредоточена армия Республики Боснии и Герцеговины. 9 мая 1993 года Хорватский совет обороны (ХСО) атаковал Мостар с использованием артиллерии, минометов, тяжелых вооружений и стрелкового оружия, город был окружен хорватскими войсками в течение девяти месяцев, большая часть исторических сооружений была уничтожена артиллерией. Силы ХСО изгнали тысячи боснийцев с западной стороны в восточную часть города, участвовали в массовых расстрелах, этнических чистках и изнасилованиях в западном Мостаре и его окрестностях. Кампания ХСО привела к тысячам раненых и убитых.
12
«Крыша мира» – жилой дом в Харькове по адресу Театральный переулок, 6; был построен в 1910 году. Он был жилым до 1980 года, после пожара жильцы были выселены. До революции в этом доме проживали состоятельные граждане. Харьковчане называют это здание «Крышей мира», так как с него хорошо виден город. О страшном здании с обвалившимися окнами и жуткими фигурами в виде голов животных ходило много легенд.
13
Лайтбокс (световой бокс, англ. lightbox) – источник света с большой поверхностью, входит вместе с рассеивателями, зонтами, экранами и т. д. в оборудование фотостудий, используется в фотосессиях.
14
Аэропорт Schiphol – аэропорт Амстердама.
15
Отрывок из стихотворения раннего И. Бродского «Кто-то должен любить некрасивых».
16
Журавлевка, Журавлевская слобода. Бывший хутор, затем пригородная слобода вдоль поймы реки Харьков.