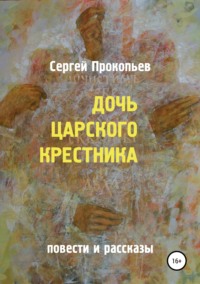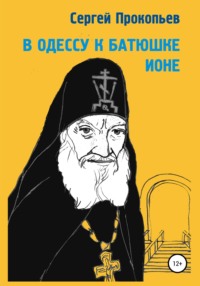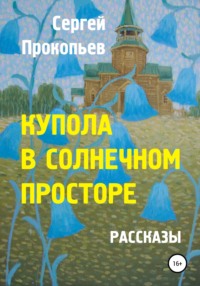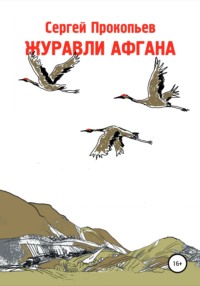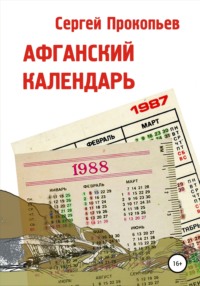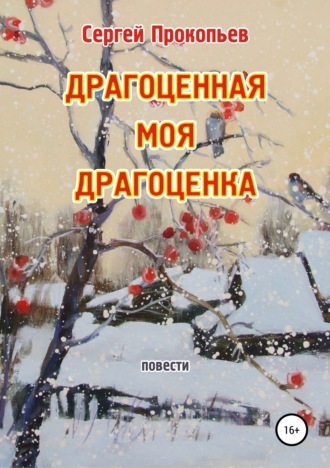 полная версия
полная версияДрагоценная моя Драгоценка
Каторгу Иван Петрович отбывал, не дай Бог никому, в лагерях под Магаданом. На шахте. И вот однажды после ужина помбригадира выкрикнул: «Патрин, в оперчасть!» Дядя Ваня рассказывал: «Спрыгнул я с нар, фуфайку подхватил и голову ломаю: на кой понадобился куму? Прихожу, а тот начал о семейном положении расспрашивать». Зэк честно ответил, что семья-то как бы и есть, а как бы и непонятно. Ведь она будто на другой планете – за границей, в Китае. Дядя Ваня представления не имел о коренных изменениях в судьбах трёхреченцев, о движении «целинников», о массовой реэмиграции из Маньчжурии в Союз… Опер протягивает фото и письмо жены: «Вот твоя семья»… Зэк, отсидевший почти десять лет в краю, где по статистике из сотни заключённых выживали единицы, упал в обморок от вида жены и почти на десять лет повзрослевших детей.
– В себя прихожу, – рассказывал, – уставился на фотокарточку, и тупая мысль ворочается: «Что за девочка?»
Наташа родилась через четыре месяца, как его арестовали.
В пятьдесят шестом он освободился, и судьба подарила в сорок семь лет ещё одну дочь – Тамару. В Красноярске живёт. Двоих детей воспитала. Любил Иван Петрович свою «Томочку» – последыша, поскрёбыша… Жалел, муж непутёвый попался. Был директором школы, но спутался с молодой учительницей, бросил семью… А уж как жену дядя Ваня боготворил: «Аннушка моя, Нюрочка моя – золото, не женщина. Я-то в лагере чё – только за себя отвечал. Бывало, думаешь: скорей бы чё ли сдохнуть – не мучатся. А на ней четверо детей… Как бы тяжело ни было – тяни воз со всеми прицепами…»
Зэковская осторожность вошла в него намертво. В первых числах июня 1973-го утром в субботу сижу на кухне, пью чай, вдруг телефон затрезвонил, поднимаю трубку. В ней плотной скороговоркой:
– Павлик, здравствуй, это дядя Ваня Патрин, старший дядя Ваня, я тут с Нюрой к Олегу приехал, внука посмотреть. Жду тебя у магазина «Яблонька».
И – конец связи, слова не дал мне вставить. Накручиваю телефон Олега. Никто трубку не берёт. Делать нечего, бегу рысью к «Яблоньке», от меня ходьбы пять минут. Подхожу, дядя мой стоит и улыбается, солнышко да и только.
Оказывается, он, битый-перебитый зэк, тёртый лагерями калач, узнав от Олега, что тесть мой имеет отношение к органам, посему в соответствии с формулой: бережёного Бог бережёт, а ретивый сам наскочит – дабы не наскакивать, позвонил из телефонной будки и назначил встречу на нейтральной территории. Не захотел ко мне домой:
– Не-не-не, – упрямо отказался, – жизнь такая, вдруг тебя подведу.
Сели на автобус и поехали к Олегу в военный городок.
Я считал: дядя с тётей обязательно поедут к моим родителям в Троебратное. Ведь рядом, что тут от Омска ехать до Кургана, ночь переспать, а от Кургана всего ничего. Дядя Ваня, воссоединившись с семьёй после лагеря, к первым из родственников приехал к нам в Новосибирскую область на птицеферму. Прекрасно помню, как благодарил отца с матерью, что поддерживали его семью в Драгоценке. Отец, пока дети были маленькими, помогал с покосом, зерном обеспечивал. Мальчишки подросли, стал брать их на полевые работы, уже как бы зарабатывали сами…
И вдруг дядя Ваня мне говорит:
– Нет, Павлик, в этот раз не поедем к твоим в Троебратное.
Мы за столом сидели, чуток разгорячились после тостов «за встречу!», «за внука!». Я давай наседать:
– Как так, рядом и не съездить! Дядя Ваня, извини, не пойму вас! И отец с матерью не поймут. Вы ведь на пенсии, на работу не надо.
Он пытался отделаться отговорками, а потом наедине остались, честно признался:
– Денег нет, чё там эта пенсия.
Я не практиковал заначки от семейной кассы. Впервые пожалел об этом. Что делать? Знал, жена не поймёт моих родственных чувств с экономическо-альтруистической подоплёкой: семейный бюджет на тот момент свободными средствами не располагал. Тогда я втихушку запустил руку в НЗ, в котором хранились у нас облигации трёхпроцентного займа, вытащил парочку двадцатипятирублёвых и чуть не силком заставил дядю Ваню взять.
Получилось, они в последний раз повидались и с моими родителями, и с тётей Ханочкой, с другими родственниками и знакомыми трёхреченцами, кто жил в Троебратном. Более сорока лет греет мне душу тот порыв: вовремя сообразил и не пожалел денег, устроил им эту поездку. Дядя с тётей порадовались, и родители мои тоже.
Ни с кем из двоюродных братьев не был я так близок, как с Олегом. Умный, талантливый… Всех троих сыновей дяди Вани Бог щедро талантами одарил. Николай, мой ровесник, родился на Николу зимнего – девятнадцатого декабря. Окончил физкультурный факультет Красноярского пединститута, марафонец, мастер спорта по лёгкой атлетике и лыжам. Преподавал в техникуме в Абакане, дружил со знаменитым богатырём-борцом Иваном Ярыгиным. Ярыгин любил пельмени Николая. Тот делал по-патрински, мама так же стряпала. В фарш добавляется свежая капуста. В кипящую воду бросаешь её, и чуть-чуть надо подержать, несколько секунд, и на дуршлаг, потом через мясорубку. Капуста придаёт фаршу мягкость. Николай, возможно, ещё какую-нибудь траву добавлял. Травник он отменный. Летом специально ходил в тайгу. Всегда один. Спрашиваю:
– Не опасно?
– Да я ведь, брат, знаю, как себя вести.
Отчаянный парильщик… Мы один раз с ним на семь часов зависли у него в техникуме в бане. В выходной день. Жёны прибежали, думали: не случилось ли что с мужиками. Особенно моя Любаша заволновалась, думала: вдруг загуляли и что-нибудь случилось в связи с этим – об печку ожог или сердце не выдержало, или угорели… Загулять было исключено. Я заикнулся Николаю – пивка прихватить, после парной освежиться, он обрубил, дескать, спиртное не входит в его банную церемонию, только настои трав. Он и без бани практически не пил, с одной рюмкой весь вечер. Каких только отваров и настоев не приготовил потчевать меня в бане: успокаивающие, тонизирующие. Целый набор настоев, чтобы на каменку плескать… Дух лесной в парной стоял… И волосы чем-то полоскали, и ванночку для ног специально для меня сделал – мозоль я в дороге набил новыми туфлями…
Средний сын дяди Вани – Григорий – пошёл по музыкальной части, профессионально играл на баяне, отлично пел. Олег тоже хорошо играл на гитаре, знал массу романсов. Как услышу: «Звёзды на небе, звёзды на море, звёзды и в сердце моём…» – его вспоминаю. В том же 1973-м, в конце сентября, отец мой, возвращаясь из Забайкалья, заехал ко мне. А за два дня до этого в Омск прилетел Николай Патрин в командировку. Мы с ним и с Олегом отправились на вокзал. Отец увидел: «Ну, прямо три богатыря!» А мы действительно, в самом расцвете мужики – Олегу тридцать, нам с Николаем по тридцать четыре. У отца все котомки-сумки отобрали.
– Я с вами, братьями, – довольно заулыбался отец, – как барин!
Через два часа мы уже сидели в ресторане «Центральный». Гуляли широко. И стол по высшему разряду, и музыкой себя, какой душа желала, ублажали, Олег то и дело шёл к музыкантам с заказом. К концу вечера стал у них своим человеком, разрешили самому взять акустическую гитару, он запел:
Снился мне сад в подвенечном уборе,
В этом саду мы с тобою вдвоем.
Звезды на небе, звезды на море,
Звезды и в сердце моём…
Голос глубокий, бархатный баритон… Задушевная гитара…
Тени ночные плывут на просторе,
Счастье и радость разлиты кругом.
Звёзды на небе, звёзды на море,
Звёзды и в сердце моём.
Отец потом много лет вспоминал, подшучивая над нашим застольем, как в Омске в ресторане пил со звёздами «кондяк», заедал курицей «табак». Он настаивал, когда делали заказ, «Столичную» взять, но мы решили гулять так гулять, банальную водку и в будний день можно. «Кондяк» был молдавский, пятизвёздочный…
Вспоминаю родных, двоюродных братьев – многие были успешными спортсменами. Объяснение одно – казачья кровь, генная закладка. Олег был перворазрядником по боксу, волейболу, лёгкой атлетике. В военном училище всем занимался, всё легко давалось. Никого не боялся. С пол-оборота заводился на несправедливость, наглость. В автобус зашли однажды с ним, а на задней площадке хамло – через слово мат. Мужчина с женщиной, муж и жена, наверное, рядом стояли, мужчина сделал замечание. Дескать, придержи язык, не в лесу среди пней, женщины, дети едут. Тот в бутылку:
– Айда выйдем, очкарь! Что? Зассал? Так молчи в тряпочку, не мешай человеку разговаривать! То же мне – выискался хер четырёхглазый!
Автобус к остановке подкатывает. Я глазом не успел моргнуть, Олег, хоть и в форме, нырнул на заднюю площадку, сграбастал придурка за грудки, приподнял:
– Пошли-ка со мной выйдем!
И, не ожидая согласия, по воздуху вынес того из автобуса. Я еле успел следом выскочить. Их двое было. Парень не из слабаков, и кореш не хлюпик. Олег за будку остановки затащил это хамло:
– Ну, давай, лайся теперь, погань подзаборная!
Тот давай ерепениться:
– Да я тебя сейчас, кусок!
Олег коротко пробил левой в печень:
– Это тебе за «куска» от офицера!
Хам пополам сложился. Куда многословие девалось? Морда скуксилась… Кореш даже не рыпнулся защищать:
– Ладно чё ты… Ну выпивши он.
Олег на прощанье придурка легонько пальцами в лоб ткнул, а у того ноги от апперкота ослабшие, он сразу на задницу и сел кулём…
К великому сожалению, любил Олег и такой вид «спорта», как литробол. Злоупотреблял водочкой. Как-то жена его Валя на работу мне звонит – запил. Я его крепко пропесочил. Каялся, божился:
– Брат, даю слово – завязываю!
И служба не заладилась, начальник стал гнобить, Олег нет бы сосредоточиться, выбрал выход попроще – начал закладывать… И достукался до суда офицерской чести… Уволили из армии… Он в два дня собрался и уехал из Омска. Передо мной стыдно было, поэтому, думаю, не предупредил, не попрощался… Звоню ему, а мне говорят: «Уехал». «Как уехал? Не может быть! Надолго?» – «Навсегда». С женой развёлся, женился на другой, сын родился, но болезненный – умер в десятилетнем возрасте от онкологии. Олег и сам рано ушёл, до пятидесяти не дотянул. Подался в нефтяники, в Томской области жил. А умер в гараже, спустился в погреб… То ли с сердцем плохо стало, то ли от газов… Непонятно…
Дядя Ваня дожил до восьмидесяти шести лет. Я с ним последний раз встречался за два года до его смерти, в 1994-м. Советский зэк, отсидевший «десятку» в магаданских лагерях, ещё курил, две-три рюмочки мог пропустить, и все передние зубы собственные… Будь жизнь нормальной, такой организм лет сто бы отмахал без труда… Его бабушка по отцу, Марфа Игнатьевна, Царствие ей Небесное, в девичестве Осколкова, в сто три года ходила в церковь, сам видел, старенькая, ветхая, но придёт с палочкой, встанет в уголке… В Драгоценке упокоилась…
А незаконнорожденный сын дядя Вани – Патришонок (которого выше упоминал и которого Астаха Писарев вырастил) – погиб в начале шестидесятых годов в Казахстане в автомобильной катастрофе. С ним дядя Ваня не знался.
Иван Петрович Патрин – Малый Иван – отсидев срок по 58-й, жил сначала на станции Топки вместе с братом – Большим Иваном, потом у родной сестры (моей тёти Ханочки) в Пресногорьковской, а в начале восьмидесятых уехал в Австралию по вызову сына Владимира. Написал тому, что здоровье подводит и пора прибиваться к какому-то берегу… В Австралии, как я уже говорил, жена Варвара не приняла, отказала, хотя замуж ни в Драгоценке, ни в Австралии не вышла. Дядя Ваня у Владимира до смерти жил. Клятву, данную при венчании, жена не посчитала нужным сдержать… Дочери говорила, дескать, я его никогда не любила. Хотя, как рассказывали, не любить такого было нельзя – первый парень на деревне. Высокий, статный, голубоглазый. Пел почти профессионально. Это уже не застольное пение под рюмочку… В репертуаре даже арии были из «Евгения Онегина», несколько японских песен исполнял… А как пел казачью «Конь боевой с походным вьюком»!.. Это надо было слышать. Талант певца пусть не намного, да облегчил жизнь в лагере… Там организовывались концерты зэковской самодеятельности, что давало передышку в каторжном труде…
Посажёный отец
В сорок пятом СМЕРШ, войдя в Драгоценку, принялся всех мужчин Трёхречья просеивать, выявляя в первую голову тех, кто перешёл границу после Гражданской войны в возрасте совершеннолетия, кто воевал на стороне белых, кто из «тридцатников» – от коллективизации бежал в Трёхречье. Поселковым атаманам вручили тайные списки мужчин, которым не следовало отлучаться из деревень. Их вызывали, расспрашивали. Отец знал нескольких мужиков, тех, кто похитрее, они по-тихому смылись на период работы СМЕРШа на далёкие заимки. И отсиделись. Редко кого искали. Смершевцам хватало и без того человеческого материала. А эти, пока смершевцы не ушли, не появлялись в деревнях, тем и спаслись. Кто-то из мужиков погорел по своей наивности, генетической честности. О чём-то из своей биографии можно было умолчать. Они по простоте душевной – ум на уловки не изощрён – без утайки всё вываливали. Не могли предположить: расспросы ведутся неспроста, даже маленькая зацепка может привести к трагедии. Доверчиво отнеслись к заверениям смершевцев, дескать, простая формальность…
Как-то, я уже армию отслужил, собираюсь в клуб на танцы (у родителей в Троебратном жил), заходит мужик. Отец обрадовался:
– О, Иван Ильич! Проходи, дорогой гость.
На следующий день с отцом дрова пилим, он говорит:
– Вот судьба у человека.
И рассказал про Ивана Ильича Салохина, земляка-трёхреченца, в Казахстане он жил в деревне Белоглиновка Пресногорьковского района. Салохин из «тридцатников», ушёл в тридцать первом году в Трёхречье из Кузнецово. Не всем удавалось перевезти семью за Аргунь, а он ухитрился. Исключительной сметки был мужик. Как только СМЕРШ начал дёргать односельчан к себе, Салохин сделал для себя вывод: лучше подальше держаться от всяких проверок. И тайком улизнул на заимку. Скорее всего, отсиделся бы там. Да бес внедрил мысль сходить проведать жену, куревом заодно запастись. На одну ночь скрытно приехал, но тайное сделалось по доносу соседа явью. Тому не вовремя приспичило выйти до ветру и засёк, как Иван Ильич перемахнул забор и побежал через ограду к своему зимовью.
Оказался Салохин в лагере в Караганде. И задумал побег. У Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» одна глава посвящена героическим попыткам зеков вырваться на волю: подкопы на сотни метров за колючку делали, отчаянные прорывы устраивали. Но мало кому удавалось обрести свободу. Салохин подорвал из лагеря в 1948 году. Я не запомнил детально, но как-то он ухитрился в уголь зарыться и в полувагоне с шахты отбыл. Человеком был отчаянным, рискованным и сообразительным. Не скажу, в угле он до Борзи доехал или перебирался на другие товарняки… Главное, цели своей добился… Салохин рассказывал:
– Еду, ночь кромешная, темнота чернющая, состав останавливается, слышу, кто-то кричит: «Да Борзя это! Борзя! Дыра засранная!» А я чуть в голос «ура» не закричал!
Родное Забайкалье! С превеликой осторожностью пробрался к границе… Перемахнул через Аргунь. И охранников лагеря с носом оставил, и пограничников, наших и китайских, вокруг пальца обвёл. Порубежье с Китаем на то время охранялось серьёзно, да отчаянный казак как никто знал особенности местности. Переплыл Аргунь, а тут уже, считай, дома. Вот и желанная Драгоценка. Сколько раз в лагере на нарах грезился этот райский уголок, самый для него прекрасный на всей земле. Мечтал о родном доме, детках, жене, работе в поле, охоте, рыбалке… Запомнилось мне, что страшно любил он рыбалку. С азартом рассказывал отцу, каких налимов на перемёт по весне ловил…
Возвращения к райской жизни не получилось. Передохнуть-то Салохин передохнул, с полмесяца пожил, а потом китайские власти перебежчика арестовали. И вернули в Советский Союз: ваш зэк, сами и разбирайтесь. Очутился Иван Ильич в том же лагере, откуда удрал.
– Боялся, – рассказывал, – охранники забьют до смерти. Нет, начальник лагеря вызвал к себе и с уважением говорит: «Хоть ты и Ванька, но башка у тебя – на троих ума хватит, ещё и четвёртому черпачок останется. Всех обдурил. Мы твоих земляков и знакомых перетрясли на десять рядов, и никто ничего знать не знал».
Моего родного дядю Федю, Фёдора Фёдоровича Кокушина, Царствие ему Небесное, тоже вызывал СМЕРШ. Вполне могли загрести, воевал в Гражданскую на стороне белых. Он и на стороне красных отметился, но вначале с белыми был. Трудно сказать, почему СМЕРШ остался к нему равнодушен. К моему отцу практически не за что было докопаться: в Китае оказался несовершеннолетним, с японцами не сотрудничал, тогда как дядя Федю было за что привлечь. Не исключаю, спасло его то обстоятельство, что в отряде Лазо какое-то время воевал.
– Я им честно, – рассказывал о допросе смершевцев, – поведал, что сначала мобилизовали к Семёнову, а как разбили наш отряд, попал к Лазо.
Дядя Федя родился 5 мая 1894 года. Знал, что день этот особый в советском календаре, смеялся:
– Я, племяш, родился в один день с Карлом Марксом.
Кстати, дядя Федя из всех моих дядьёв первым узнал, что такое Трёхречье. В 1904 году на Забайкалье упала засуха, и мой дед Фёдор Иванович с сыном Федей в районе будущей Драгоценки косили сено и зимовали со скотом на заимке. С той самой поры падь, где стояла заимка, и ключ в ней (с вкуснющей водой) стали называться Кокушинскими, а речушка, из пади вытекающая, – Кокушихой.
Мой отец забрал дядю Федю, Царствие Небесное обоим, к себе в Троебратное, когда я уже в Омске учился. Каникулы, как правило, проводил у родителей и частенько беседовал с дядей Федей. Грамотёшки у него практически никакой, не учился ни дня, только считать умел, расписываясь, закорючку ставил, но пользовался уважением среди станичников, даже избирался поселковым атаманом Драгоценки. По наследству досталась мне его печать атаманская из слоновой кости. Даже две. На одной по-русски «Ф. Кокушин» вырезано. На другой – иероглифы в два ряда. В конце восьмидесятых я попросил перевести надпись одному знатоку китайского. Оказывается, по-китайски вырезана фамилия – «Кокушин». У дяди Феди были наследники – внуки. Но поскольку он перед смертью у отца нашёл приют, ему передал печать, семейные фотографии. А отец перед смертью – всё это мне вручил.
Как-то спрашиваю:
– Дядя Федя, ты историю Лазо знаешь? Как кончил жизнь твой боевой командир? Кстати, сын бессарабского помещика…
– Откуда, Павлик, я ведь книг не читаю.
– В топке, – говорю, – японцы сожгли его.
– Так и надо картавому, зверь ещё тот был, любил отдавать приказы пленных казаков на штыки бросать.
В 1916-м дядю Федю мобилизовали и сразу на немецкий фронт. Участия в боевых действиях практически не принимал: «Я всего два раза в атаку ходил, а потом нас с фронта сняли». Что интересно, боялся крови. Бывает такое. Вырос в деревне, а не мог резать скотину. Есть люди природной интеллигентности, он именно такой казак-крестьянин. Никогда ни одного мата от него не слышал, выдержанный, рассудительный… По натуре мягкий, не любил скандалов… Никогда не напивался, совсем немного позволял себе. Пригубит рюмочку и всё. Отец мой тот-то мимо рта стакан не проносил, дядя Федя этой страсти не знал ни в молодости, ни позже.
На Пасху среди других развлечений для публики Драоценки устраивалось соревнование, которое никогда в жизни нигде больше не видел и не слышал о подобном – на старт выходили жеребец-бегунец, понятно дело, с наездником и пеший спринтер. Дистанция, может, шагов сорок-пятьдесят. Одна особенность скачек-бегов человека и лошади – стартовали участники в разной ориентации в пространстве. Лошадь к трассе задом стояла на старте, а бегун – лицом. Задача последнего после команды «марш» максимально использовать фору: пробежать как можно дальше по дистанции, пока наездник разворачивает лошадь и пускает её в галоп. Дядя Федя и в сорок лет побеждал на этих соревнованиях. Сказывалось – не курил, не выпивал. На какой-то шаг, но первым пересекал финишную черту, не дав бегунцу времени разогнаться.
И прекрасно знал лошадей. Один из тех казаков в Драгоценке, кто славился умением ладить (готовить к скачкам) бегунца. Большим мастаком считался по подведению лошади к пику формы. Делалось это в течение недель двух. Обязательно выверенный режим питания. Сено только первоклассное. В Трёхречье росла изумительная по кормовым качествам трава – острец. Наподобие пырея, но по высоте ниже, сантиметров шестьдесят-семьдесят. Листочки приметные, с голубизной. Сено вылежится в стогу, привезут зимой, и до того красивое – голубизной отдаёт. Лошади больше всего любили, когда в сене острец. Им кормили бегунцов перед скачками. Ну и овёс, само собой, в рационе… Вовремя накормить, вовремя выездку сделать, до пота прогнать, дать выстояться… Целая наука. А ещё дядя Федя считался специалистом на пуске. Зная норов, характер лошади, можно выиграть на старте несколько секунд, они на короткой дистанции порой решали всё.
И сыновья дяди Феди, Николай и Иннокентий, спортивными достижениями славились. Про Иннокентия уже говорил. Николаю в молодости мало было равных в Драгоценке по бегу на длинные дистанции – на пять и десять тысяч метров. На районных олимпиадах всегда среди победителей. А Иннокентий – спринтер… Оба унаследовали от отца гены бегуна, но лучше бы восприняли его сдержанность к спиртному…
К красным партизанам дядя Федя попал в девятнадцатом. Повоевал месяца два, и поручили пленного расстрелять. Проходили через деревню, один из местных вышел к командиру:
– Разрешите обратиться, у нас на чердаке вооружённый беляк.
Белый сразу сдался, услышав «выходи, ты окружён!». Бросил сначала винтовку, затем слез.
Вечером отряд расположился на ночлег, часовых выставили, командир вызывает:
– Кокушин, тебе боевое задание – пленного пустить в расход.
Дядя Федя повёл парня за пригорок. Молодой, лет двадцать. Напуганный, жалко смотреть. Наверное, хотел убежать от белых да угодил в полымя к красным. Губы беззвучно шевелятся, молился что ли. А темнело уже, конец сентября. Ушли подальше от отряда, дядя Федя парню говорит:
– Беги, вверх выстрелю.
Тот сначала попятился, боялся пули в спину, потом побежал и всё оглядывался, не игра ли в «кошки-мышки». Дядя Федя вернулся в отряд, доложил командиру:
– Задание выполнено.
– Не врёшь? – почему-то спросил командир и нехорошо хихикнул.
Дядя Федя решил про себя: пора убегать. Подкормил своего Серка, а когда все уснули, вскочил в седло и был таков.
Отец с мамой венчались в Петров день в Драгоценке. Посажёным отцом с правой стороны от жениха сидел на свадьбе его родной брат Фёдор Фёдорович. Прошло ровно пятьдесят лет с того дня, и вот мы отмечаем родителям золотую свадьбу – и снова, как и двенадцатого июля 1925 года, по правую сторону от отца дядя Федя. Старенький уже, рюмку нетвёрдо держит, но сподобил Бог братьев сидеть плечом к плечу в такой день… Только самых близких родственников собралось на той свадьбе более семидесяти человек… И со стороны Кокушиных, и со стороны Патриных…
Эпилог
На всю жизнь осталась в памяти картина: иду с уздечкой на солнцевосход по зелёному лугу. Минутами раньше отец потряс за плечо:
– Павлик, поднимайся! Пора! Пригони лошадей!
Я вылез из балагана, сунул ноги в ичиги. По-утреннему свежо, небо серенькое. Взял уздечку, удила холодные, с капельками влаги на металле, отполированном губами лошадей. Мне надо пройти луг, что широкой рекой по небольшому уклону стекает к берёзовой роще. Лошади пасутся где-то у дальнего края. На востоке назревает солнце, но ему не дают показаться в полную силу облака, нависли упрямым препятствием, будто хотят оставить утро блёклым, безрадостным, тусклым… И вдруг солнце вырвалось из плотной завесы, показалось золотым диском, и произошло чудо: луг засверкал, заиграл мириадами росинок. Каждая капелька воды вспыхнула, поймав яркий небесный свет, драгоценно преобразилась. Серебряными нитями повисли паутинки. Луг от края до края разноцветно запел, засверкал в лучах молодого солнца… Сердце возликовало – как хорошо на земле!..
Но через короткое мгновенье разом всё померкло. Сказка исчезла, словно ничего и не было. Алмазы росы превратились в капельки воды… Облако закрыло солнце…
Точно так же сверкнула в истории моего рода Драгоценка. Словно решено было напоследок проверить казаков на живучесть. У меня по отцу пять родных дядьёв и тётушка Соломонида, по маме два дяди и тётя Ханочка, меня Бог одарил пятью родными братьями, двумя родными сестрами, а двоюродных братьев и сестёр более сорока: тридцать один – по линии отца, двенадцать – по материнской… Но чем дальше история рода, тем чаще мощные ветви генеалогического древа превращаются в веточки… Век раскидал нас по всей России, кого-то и того дальше закинул – в Австралию, Германию. За границей их потомки в конце концов утратят русскость, растворятся в интернациональном котле… Как-то прочитал: за двадцатый век исламский мир вырос на 800 процентов, Китай – на 300, Индия – на 400. Россия могла за это время стать солнечной православной планетой, сильной, уравновешивающей остальной мир… Не суждено… Богу почему-то не угодно было отвести от России революцию… Сегодня самая напряжённая из линий, разделяющих демографические ситуации планеты, проходит по Амуру и Аргуни. С одной стороны перенаселённая глыба Китая, с другой – пустынные просторы Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири…