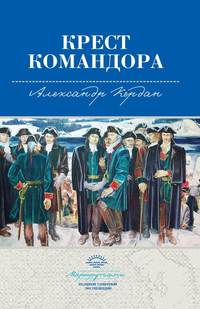Полная версия
Роман с фамилией
Тут Агазон с дотошностью энциклопедиста стал объяснять, чем могучие квинкиремы, имеющие пять рядов вёсел, отличаются от более мелких трирем и бирем, имеющихся у Помпея, сколько парусов и сколько гребцов есть на каждом из этих судов, какие абордажные команды они могут на себе нести…
Он не преминул вспомнить и о боге бурного моря Форкисе, о супруге его Кето, злобной богине пучины, и об их дочери – чудовище Сцилле, у которой двенадцать ног и шесть собачьих голов и что она живёт под утесом со стороны материка в том самом Мессинском проливе, где в давние времена чуть было не погиб Одиссей, которого римляне называют Улиссом, и где недавно Помпей рассеял флот Октавиана так же легко, как злая подруга Сциллы Харибда всасывает в себя морскую воду вместе с кораблями и моряками и извергает её обратно, но уже без судов и людей…
Я выслушал его, не перебивая, а когда он исчерпал своё красноречие, спросил о том, что мне не давало покоя:
– С Агриппой понятно. Но для чего послан в Компанию… Пол? – На имени вольноотпущенника я невольно споткнулся.
– Герои, юноша, только тогда становятся героями, когда об их подвиге кто-то красиво расскажет всем остальным, не участвовавшим в сражении. Думаю, что Октавиан отправил Пола с Агриппой, чтобы победные деяния его отважного друга не постигло забвение. В былые времена Пол славился умением красиво описать увиденное, чем и заслужил своё возвышение…
– А может, Октавиан не хочет, чтобы его венценосное имя оказалось в тени Агриппы после победы?
– Это справедливо, но только в том случае, если Агриппа выйдет победителем! А если победит Помпей? – усмехнулся Агазон.
– Тогда потребуется умение для истолкования причин, не бросающих тень на проигравшего… И главное, способность обставить дело так, чтобы Октавиан остался в глазах сограждан неповинным в поражении… – осторожно предположил я и снова заслужил похвалу Агазона:
– Да ты, юноша, клянусь молнией Зевса, и правда не чужд философии. Твои предположения кажутся мне недалекими от истины: у любой победы много родственников, а поражение всегда сирота… Станет триумфатором Агриппа или нет, в любом случае Пол в Рим вернётся не скоро.
Боги опять проявили ко мне свою милость.
И Агазон переменился ко мне. Мы стали ежедневно и подолгу беседовать. Он посвящал меня в тайны разнообразных наук, в которых был непревзойдённым знатоком. Мы обсуждали всё, что происходит под крышей библиотеки: новые стихи и поэмы, прозвучавшие здесь, людей, которых в них славят или подвергают осмеянию. Благодаря нашим беседам я вскоре отлично разбирался в том, кто из людей искусства тяготеет к какой партии, был в курсе того, о чём говорят на публичных собраниях и литературных вечерах…
Но при этом я вовсе не собирался доносить кому бы то ни было всё, что мне стало известно.
2
Новое соглашение Октавиана с Марком Антонием, достигнутое в Таренте, уже много дней будоражило гостей Поллиона. По нему Марк Антоний передал Октавиану сто тридцать своих кораблей для борьбы с Секстом Помпеем, давно уже раздражающим римскую знать тем, что привечает у себя на Сицилии беглых рабов. Октавиан, в свою очередь, уступил Антонию двадцать тысяч своих легионеров для похода на Восток.
Корабли Антония сыграли свою роль в борьбе с флотом Помпея. Вскоре до Рима дошла весть о победах Агриппы при Милах и Навлохе, о стремительной высадке войск Октавиана и Эмилия Лепида на Сицилии, где и было нанесено окончательное поражение сухопутной армии Помпея. Император пиратов вынужден был бежать в Малую Азию, где был схвачен и казнён одним из легатов Марка Антония.
Триумф Агриппы отпраздновали пышно. Победителя увенчали морской короной – венком, сплетённым из миниатюрных золотых вёсел…
При этом от всеобщего внимания не ускользнуло, что рядом с триумфатором на колеснице радостно приветствовал народ Октавиан, который, как справедливо предполагали мы с Агазоном, умело воспользовался победой друга для повышения собственной популярности.
В город вместе с победоносными войсками вернулся и нечестивец Пол. К моему облегчению, в библиотеку Поллиона он даже не заглянул. Но вскоре прислал выслушать мои донесения своего нового помощника Талла, молодого и худосочного раба, более похожего на девочку-подростка.
Талл держался надменно и словно нехотя расспросил меня о том, что происходило в библиотеке за последние месяцы. Было видно, что мой рассказ его вовсе не интересует, и он просто выполняет поручение. Я сухо поведал ему, что в обществе Поллиона все восхищаются новыми успехами Октавиана, а недовольные его политикой граждане в библиотеку не ходят.
Талл недоверчиво посмотрел на меня.
– Враги нашего господина Октавиана не дремлют, – многозначительно произнёс он, – и мы должны быть готовыми вовремя предупредить любые происки…
– Кто же сейчас враг нашего господина? – осторожно полюбопытствовал я.
– Это тебе и предстоит выяснить в самое ближайшее время, – сказал он и ушёл восвояси.
А мне и впрямь в голову не приходило, от кого ждать тех самых происков, о которых вел речь Талл. Главного союзника и соперника Октавиана Марка Антония уже давно в Риме не было. Выполняя завещание Юлия Цезаря, он собрал огромное войско из тринадцати легионов, не считая кавалерии и вспомогательных отрядов, и двинулся в поход на мою родную Парфию.
Это известие, когда оно дошло до моих ушей, вызвало во мне противоречивые чувства. С одной стороны, я желал, чтобы мои сородичи дали римлянам решительный отпор, с другой – чтобы мой заклятый враг узурпатор Фраат потерпел в войне с Марком Антонием поражение.
Имей такую возможность, я встал бы в ряды армии врагов, чтобы воевать с Фраатом, ибо не угасло во мне жгучее желание отомстить за смерть отца и матери, за свержение нашего государя, за гибель царевича Пакора и за моё позорное рабство…
Агазон, которого я всё больше почитал как наставника и старшего друга, в ответ на мои размышления о праведной мести проскрипел:
– Не прибавляй огонь к огню. Так завещал Платон. Основа всякой мудрости – терпение. Запомни, юноша: главные победы – бескровны. Только тогда они не вызовут гнева богов…
– Но боги сами враждуют друг с другом и со смертными, сеют вокруг страх и огонь, ужас и тлен, но при этом учат нас быть покорными их воле и не помнить зла…
Агазон снова сослался на Платона:
– В своих бедах люди, как правило, склонны винить кого угодно: судьбу, богов, но только не себя самих…
Уж не знаю, кого следовало винить Марку Антонию, но только в походе на Парфию он потерпел поражение.
Мне довелось переписывать донесения, сообщавшие подробности этой кампании.
Осада древней армянской столицы Атропатены, где уже много лет стоял парфянский гарнизон, закончилась для Антония неудачей. Его осадные орудия: башни и тараны, онагры и требушеты, катапульты и баллисты – во время их доставки к стенам осаждённого города отбили парфяне и сожгли. Без них взять каменную твердыню Атропатены оказалось столь же невозможно, как Ксанфу, хозяину Эзопа, выпить море…
Проведя около полугода в бесплодном стоянии у стен непреступной твердыни, обладающей достаточными запасами воды и продовольствия и способной выдержать многолетнюю осаду, Антоний отступил.
Его путешествие через пустынные местности горной Армении, голод, болезни, постоянные наскоки парфянских конников довершили дело: он потерял более трети своего войска и почти всю кавалерию и обоз. Только прибытие в Сирию египетской царицы Клеопатры с деньгами для армии и пополнением для поредевших легионов Антония предотвратило его полный крах.
Я воочию представил, как идёт по каменистой пустыне, где не растёт даже верблюжья колючка, потрёпанное римское войско. Идёт, сохраняя строй, размеренным шагом римского легионера, выверенным в походах во все концы Ойкумены. Шаг – вдох, два шага – выдох. Шаг – вдох… И так, без привала и остановки, около полутора сотен стадий в день… Никакие поражения не могут пошатнуть дисциплину и дух этих испытанных в боях солдат.
Качаются над ровными рядами запылённых железных шлемов не тускнеющие серебряные орлы легионов на деревянных древках, колыхаются отличительные значки когорт и манипул, изображающие животных: волков, коней, кабанов, лавровые венки и раскрытые ладони… Время от времени раздаются громкие голоса центурионов, подбадривающие легионеров. Мерно покачиваются в сёдлах командиры манипул и когорт.
Но вот неожиданно взвихривается пыль на горизонте, как будто начинается пыльная буря. В знойном мареве, словно из ниоткуда, возникают зыбкие силуэты конников. Как слепни налетают на пасущуюся на лугу скотину, наскакивают со всех сторон на римлян всадники в лёгких, развевающихся на ветру одеждах. Колонна ощетинивается копьями. Летят навстречу друг другу стрелы и дротики, камни и свинцовые шары… Кричат и стонут раненые… И нападающие отступают. Запоздало звучат трубы и рожки. В погоню за парфянами устремляются турмы римских кавалеристов…
Из погони, как правило, возвращаются единицы. Ибо ничто не сравнится со знаменитым парфянским выстрелом, разящим наповал, и нет коней, равных в выносливости и скорости нашим ахал-теке…
Представляя эту живописную картину, я не мог сдержать счастливой улыбки. Я ощущал себя прежним – воином, всадником, победителем. Вновь чувствовал трепет шёлковой гривы моего Тарлана…
Когда же видение отступило, ещё горше и безысходнее ощутилось моё нынешнее положение. Я – раб. Мой верный Тарлан погиб. Пали от рук убийц, посланных предателем Фраатом, все мои родные. Изрублены в сече с легионерами Вентидия все мои друзья. И даже поражение Марка Антония не давало мне радости. Оно всего лишь означало конец надеждам на справедливое возмездие узурпатору…
Невозможность распоряжаться собственной судьбой исказила мой взгляд на многие события. Важные для Рима, для моей Парфии, для сотен тысяч других людей, они казались мне не столь значимыми, как моя личная несвобода.
3
В год второго консульства Октавиана, осуществляемого им на пару с патрицием Луцием Волкацием Туллом, Марк Агриппа стал эдилом Рима. Эта должность давала ему право осуществлять надзор за строительством и содержанием храмов, а также ведать общественными играми.
Став магистратом, Агриппа со свойственной ему энергией взялся за благоустройство города, реставрацию и строительство акведуков, чистку городской канализации – Большой клоаки. Это вполне удалось ему, и Великий город стал ещё ухоженней и благовиднее.
Незаметно я привык к Риму, так враждебно встретившему меня вначале и ставшему теперь моим вторым домом. Я полюбил его портики, величественные храмы и роскошные сады с их тёмными пиниями, зелёными оливами и серебристыми тополями, с цветущими круглый год кустами роз и гортензий.
Даже мне, живущему в Риме не так давно, было очевидно, как похорошел, преобразился город при Агриппе: новые здания из мрамора день за днём всё больше вытесняли с улиц старые постройки из туфа и самодельного кирпича.
Впрочем, мой ловкий господин Октавиан и эти достижения умело приписал себе. Острословы из окружения Поллиона на все лады обсуждали хвастливое заявление консула: «Я принял Рим кирпичным, а оставлю потомкам мраморным!» и, конечно, упрекали Октавиана в высокомерии и самолюбовании.
И только Агриппа, казалось, не обращал на похвальбы друга никакого внимания.
Как справедливо заметил Вергилий, всякого из живущих влечёт своя страсть… Проявилась таковая и у Марка Агриппы. Этот неотёсанный «солдафон», как называли его между собой посетители библиотеки, неожиданно принялся покровительствовать скульпторам и даже стал появляться на выставках их работ.
А вот в саму библиотеку Поллиона он заглянул лишь однажды, да и то не ради хранимых здесь свитков и пергаменов: они его не интересовали. Он пришёл посмотреть на свой бюст, заказанный хитрецом Поллионом у модного скульптора Квинта Лолия Алкамена.
Бюст удивительно точно передавал черты Агриппы: грубое лицо с волевым подбородком, крупным мясистым носом, широкими, резко очерченными ноздрями, могучую шею, широкие плечи и грудь воина с рельефной мускулатурой.
Мне тогда удалось хорошо рассмотреть прославленного полководца и флотоводца воочию. Навсегда врезались в память его низкий и резкий, приспособленный для отдачи команд голос, кривые ноги кавалериста и раскачивающаяся походка моряка. Агриппа прошёлся несколько раз вокруг своего изваяния, удовлетворённо крякнул и ушёл, оставив после себя почти неуловимую смесь запахов конюшни и корабельной верфи.
Я подумал тогда, что именно такой друг – суровый и приземлённый, надёжный и грубый, нужен Октавиану, власть которого в Риме всё это время оставалась зыбкой и неустойчивой. Одному её не удержать.
Мои размышления оказались верными.
Сторонники Марка Антония снова дали о себе знать. Гай Сосий, избранный консулом, выступил в Сенате с обвинительной речью против Октавиана. Его поддержали многие важные сенаторы и представители всаднического сословия. Октавиан в ответ явился в Сенат вооруженным, в сопровождении Агриппы и преданных ему легионеров и, в свою очередь, обвинил Сосия и его патрона – Марка Антония – в развязывании гражданской войны.
В ту же ночь Сосий и второй консул Гней Домиций Агенобарб вместе с тремя сотнями сенаторов бежали к Антонию, который в Эфесе, уже не таясь, собирал армию для похода на Рим.
Остроты кризису добавило и то обстоятельство, что Марк Антоний развёлся с сестрой Октавиана Октавией и совершил неслыханное кощунство – официально женился на царице Египта Клеопатре. По Риму поползли слухи, усиленно распространяемые клевретами Октавиана, что Антоний околдован зельями царицы-блудницы, что он совершенно потерял разум и волю, что его легионами полновластно распоряжаются евнухи и служанки Клеопатры, мечтающей покорить Рим.
Осенью в год 723-й от основания Рима Сенат, теперь уже полностью состоящий из сторонников Октавиана, объявил Египту войну.
Верный Агриппа тотчас оставил эдильство и снова возглавил римский флот.
В битве при мысе Акций его либурны оказались более маневренными и боеспособными, чем неповоротливые суда египтян. Они сломали боевые порядки кораблей Антония и Клеопатры, сожгли и потопили большинство из них. Антоний запаниковал, бросил погибающий флот и вслед за своей возлюбленной Клеопатрой бежал в Египет.
Рим ликовал. Знаменитый Гораций устроил в зале библиотеки восторженную рецитацию – декламацию своего девятого эпода, посвященного победе при мысе Акций и написанного буквально за три дня после того, как поэт узнал эту новость.
Гораций снискал бурные аплодисменты собравшихся, многие из которых ещё недавно почитали себя противниками Октавиана.
– Жаль, юноша, что ты не видел их льстивые лица, – восклицал Агазон. – О, подлая человеческая натура! Ещё вчера эти змеи устраивали овацию Марку Антонию и вот теперь ликуют, узнав о его поражении. А этот презренный Гораций? Разве можно заставлять свою музу так пресмыкаться и лгать! И всё в угоду сильным мира сего… Подумай только: он ставит Октавиана выше Мария и Сципиона Эмилиана, называет день победы при Акции более радостным, чем день освобождения Сицилии от Секста Помпея… Он опять превозносит Октавиана как великого триумфатора и ни слова не говорит о вкладе в эту победу доблестного Агриппы…
Возмущённый Агазон долго не мог успокоиться. Несколько дней он бурчал себе под нос:
– О, Гораций, о, низкий льстец! Как ты мог без тени смущения все восторженные похвалы обращать к тому, кто ещё вчера был заурядным, беспомощным юношей, сказавшимся больным в сражении при Филиппах, полководцем, бросившим своё войско и бежавшим в Мутинском сражении… Да как тебе не стыдно! Разве твой кумир божествен и бессмертен, разве он благословен и достоин своего унаследованного от Цезаря имени Август! Ты только послушай, – теребил он меня: – Когда ж, счастливец Меценат, отведаем, Победам рады Цезаря, Вина Цекуба, что хранилось к празднику: Угодно так Юпитеру… Тьфу, какая мерзость!
Я дружески посмеивался над Агазоном:
– А что, если удача снова улыбнётся Марку Антонию?
Агазон хрипло рассмеялся:
– Тогда не только этот Гораций, но и все продажные стихотворцы, политики, оптиматы и популяры (ты, мой мальчик, надеюсь, знаешь этих сторонников нобилитета и плебса) будут пить вино за Клеопатру, правительницу Рима, славя её в стихах и тостах… А Квинт Лолий Алкамен высечет из мрамора бюст Антония куда как с большим прилежанием, чем только что высекал бюст Агриппы… – Тут он по-отечески ласково предупредил меня: – Не советую тебе, юноша, даже мысленно лезть в политику. Запомни: там невозможно остаться честным и не потерять своего лица. Как сказал мой мудрый земляк Пифагор Самосский, политика подобна зрелищу: в ней часто весьма плохие люди занимают наилучшие места… Я предпочёл бы, чтобы тебя по-прежнему куда больше интересовала философия. Она одна даёт мыслям свободу, а сердцу покой… Но этот покой ты сможешь обрести только тогда, когда потушишь всякую ненависть в своей душе…
Я с радостью последовал бы советам мудрого грека и продолжал оставаться подальше от всякой политики и от сильных мира сего, но судьба, увы, не предоставила мне такой возможности.
Накануне сентябрьских нон меня неожиданно вызвали в дом Октавиана.
4
От плебейского Авентина до патрицианского Палатина рукой подать. Спустившись по узенькой улочке от храма Свободы в долину к Большому цирку Массимо и обогнув его кирпичную стену, мы с присланным за мной рабом вскоре оказались у западного подножия Палатинского холма, самого густонаселённого из всех семи римских холмов.
В древности здесь стояли хижины пастухов, которые и положили начало великому городу.
Ещё при Ромуле Палатин, окружённый каменной стеной, соединялся с другими частями города Рима двумя воротами: северными – Porta Mugonia и западными – Porta Romanula. Ворота эти давно не закрывались, но внушительным видом и размерами ясно давали понять каждому проходящему через них в сторону Палатина, что теперь он вступает в район высшей знати и богачей.
Пройдя с моим спутником через Porta Romanula, мы поднялись на Цермал – западную вершину Палатинского холма и направились к лестнице Кака, где и располагался дом моего господина.
Прежде это жилище принадлежало оратору Гортензию, стороннику Брута. Во времена второго триумвирата Гортензия внесли в проскрипции, то есть списки лиц, объявленных вне закона, и дом конфисковали в пользу Октавиана.
Октавиан в который раз проявил недюжинную деловую хватку: выкупил соседний дом у сенатора Катулла и устроил свою резиденцию, объединив оба строения в одно.
Я уже бывал возле нового дворца Октавиана, доставляя сюда рукописи. Но внутрь никогда не заходил: у дверей меня обычно встречали Талл или другой раб, которым я и передавал свитки и папирусы.
Всю дорогу я терзался неизвестностью: кому мог понадобиться в отсутствие моего господина? Сам Октавиан вместе с ближайшими помощниками всё ещё находился в Греции.
С волнением и тревогой вошёл я в двери дворца.
Пройдя вестибюль и переднюю, так называемый остий, мы со спутником оказались в атриуме – крытом дворике с бассейном, в который через отверстие в крыше стекает дождевая вода. Наполовину пустой бассейн свидетельствовал о том, что время дождей ещё впереди.
Раб вёл меня по залам и коридорам уверенно и быстро. Однако, едва поспевая за ним, я успел заметить, что Октавиан живёт почти по-спартански. Несмотря на внушительные размеры, его дворец не блистал роскошью. Крышу атриума поддерживали невзрачные, серые колонны из дешёвого албанского туфа, боковые комнаты не имели дверей и мраморной отделки, а пол не украшала мозаика, как заведено в домах аристократов, где мне приходилось бывать.
Отдёрнув тяжёлую портьеру, раб провёл меня в приёмную – таблинум, где наконец объявил:
– Тебя пожелала видеть наша госпожа – благородная Ливия. Жди здесь! – и удалился, оставив меня в недоумении: для чего я потребовался этой могущественной матроне?
О супруге Октавиана я многое слышал от Агазона.
Дочь претора Марка Ливия Друза Клавдиана и плебейки Альфидии, Ливия в шестнадцать лет стала женой своего двоюродного брата Тиберия Клавдия Нерона – яростного сторонника Марка Антония и давнего противника Октавиана, не однажды открыто и с оружием в руках выступавшего против него. В браке с Нероном Ливия родила двух сыновей. Удивительно, что уже через день после рождения младшего из них – Друза, она стала женой Октавиана. Он не только помиловал её бывшего мужа, но и пригласил его на свою свадьбу с Ливией.
Правда, сразу после этого Октавиан избавился от соперника – отослал наместником в одну из далёких провинций вместе со старшим сыном, названным в честь отца – Тиберием. Друз, вопреки закону, по которому все сыновья должны следовать за своим отцом, остался с Ливией. Позже Октавиан усыновил обоих мальчиков, сделав их своими наследниками. Теперь они воспитываются наравне с его дочерью Юлией. Мать Юлии Скрибонию, брошенную им, Октавиан вскоре так же безжалостно, как бывшего мужа Ливии, выслал из Рима. На этой ссылке, как говорят, настояла его новая супруга.
А ещё Агазон поведал мне, что она очень начитанна, прекрасно разбирается в философии и поэзии. При этом – практична, умна и является едва ли не единственной советницей Октавиана, к чьим словам он прислушивается. К тому же у Ливии хватает терпения сквозь пальцы смотреть на многочисленные увлечения супруга другими женщинами. И более того, она сама знакомит пылкого Октавиана с юными красавицами, поощряет его амурные похождения со своими подругами и посредством этого сохраняет полную власть над ним…
Послышался звук шагов и шелест одежд. Со стороны перестиля – внутреннего двора, окружённого портиками, в таблинум неспешно вошли три молодые женщины. Судя по неброским оттенкам их нежных туник, по сотканным из тонкого, дорогого сукна белоснежным столам с пурпурной оторочкой по краям, все они – важные матроны, представительницы римской родовой знати.
Все трое были хороши собой. Но я сразу определил, которая из них Ливия, хотя прежде её никогда не видел.
Ростом не выше своих подруг, не имеющая отличительных украшений в наряде, она всё-таки выделялась.
Гордый взгляд, голова, увенчанная короной тщательно уложенных светлых шелковистых волос, вьющихся на лбу и возле ушей, властных изгиб губ, волевой подбородок – всё говорило, что подлинная хозяйка дома – она.
Подойдя ближе, матроны остановились и принялись бесцеремонно разглядывать меня. Но если Ливия проделывала это молча, то её спутницы не скупились на колкие замечания и откровенные оценки.
– Что-то этот раб совсем не похож на умника… К тому же он не так молод и хорош собой, как я ожидала… – скорчила недовольную гримасу матрона с ярко-рыжими волосами.
Кровь прилила к моим щекам.
– Ты не права, Ургулания, он прехорошенький, – возразила ей брюнетка. – Посмотри, какие у него чувственные губы, да и краснеет совсем как мальчишка… Уж не девственник ли он?
– О, ты, Планцина, несомненно, смогла бы помочь ему избавиться от этого недостатка!..
Бесцеремонность этих юных красавиц заставила меня стиснуть зубы, чтобы не ответить им дерзостью. На миг я забыл о том, кто я. Во мне закипела кровь моих гордых предков, куда более знатных, чем эти потешающиеся надо мной римские блудницы.
Ливия жестом остановила подруг. Она глядела на меня своими карими миндалевидными глазами властно и снисходительно – так смотрят на собственность, ощущая свою безграничную власть.
– Прочти нам что-нибудь из Эсхила… – повелела, обращаясь ко мне.
Я, позабыв наставления Агазона, учившего хорошо подумать, прежде чем начать говорить, дерзко прочёл первые пришедшие на ум строки:
– Любовь, если можно любовью назвать Безумной похоти женской власть, Опасней чудовищ, страшнее бури!
Рыжеволосая и брюнетка захлопали в ладоши, а Ливия произнесла задумчиво, улыбаясь краешками резных губ:
– Правы те, кто говорил, что ты – человек быстрого ума…
– Эсхил, госпожа, говорил, что мудр не тот, кто много знает, а чьи знания полезны… – выпалил я, перебивая.
– Однако ты, раб, не только учён, но и дерзок. – В тихом голосе Ливии неожиданно зазвенела сталь. – А дерзость дорого обходится рабам… Впрочем, при всей своей дерзости ты можешь быть полезен…
Ливия почти точь-в-точь повторила слова Пола в день его появления на мельнице Вентидия, и от этой неожиданной параллели мне стало не по себе.
В этот момент в приёмную шумной стайкой вбежали дети: два мальчика, примерно десяти и шести лет, и девочка лет восьми. Это были дети Ливии – Тиберий и Друз, и дочь Октавиана – Юлия.
Увидев меня, мальчики остановились поодаль и примолкли, а девочка стремительно приблизилась, схватила меня за руку.
– Ты будешь нашим учителем? – доверчиво улыбаясь, спросила она. Впереди у неё недоставало одного зуба, отчего улыбка её казалась беззащитной и милой.
Младший из мальчиков тут же заспорил: