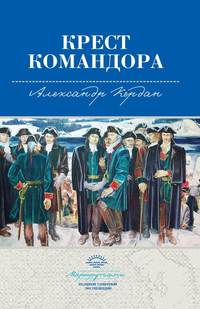Полная версия
Роман с фамилией
Из разговора конвоиров я понял, что нас ведут в Рим, где за три дня до декабрьских календ должен состояться триумф Вентидия, который он будет праздновать вместе с Марком Антонием.
Легионеры, скрашивая дальний переход, обсуждали это событие на все лады. Так узнал я об удивительной судьбе Вентидия Басса. В юности он пережил немало унижений. Его родной город Аускул захватили римляне: Вентидия в числе других пленных провели в триумфальной процессии Публия Страбона, а после много лет он был погонщиком мулов у Юлия Цезаря. Правда или нет, но говорят, что во время кампании в Дальней Испании, при переходе через горы, Вентидию довелось спасти жизнь Цезарю. Великий полководец приблизил Вентидия к себе, сделал сначала простым велитом, потом – десятником, центурионом… И вот теперь бывший раб сам стал прославленным полководцем и, как победитель парфян, удостоен чести быть триумвиром…
Через семь дней мы увидели перед собой стены Вечного города. Без еды и воды, закованные в цепи, мы ждали ещё два дня на равнине перед воротами Рима.
В день триумфа на золочёной колеснице, запряжённой четырьмя белыми лошадьми, из ворот выехали триумфаторы – Марк Антоний и Вентидий Басс. За ними следовала толпа разряженных в праздничные тоги римских сенаторов, магистратов и музыкантов. Сделав круг по равнине, вся эта процессия снова вошла в городские ворота. Следом повели в город нас.
Один из моих учителей, римлянин, когда-то в детстве восторженно рассказывал мне о Риме, о его бесчисленных и несравненных красотах, созданных сотнями тысяч рабов: архитекторов, каменщиков, скульпторов…
Бывало, я разглядывал пергаменты с рисунками, дивился красоте и величию римские храмов и портиков и грезил когда-нибудь увидеть этот сказочный Вечный город. В самых заветных мечтах я представлял, что однажды парфянское войско одолеет наших заклятых врагов и мы войдём в покорившийся нам Рим. Но никогда я не мог представить, что мне предстоит пройти по его улицам и площадям в рубище и цепях, пройти – не победителем, а побеждённым.
Стыд жёг мне душу, и всё же я узнавал места, по которым нас вели: вот – Триумфальные ворота у Марсового поля, вот – Большой цирк, а вот и Via Sacra – Священная дорога, ведущая к Форуму и Капитолию…
На всём пути процессию окружали толпы простого народа. Плебс ликовал, встречая триумфаторов цветами и восторженными возгласами. Женщины осыпали нашу колонну оскорблениями и проклятиями, мальчишки бросали гнилые фрукты. Некоторые из моих товарищей поднимали с мостовой эти отбросы и жадно ели.
Я тоже хотел есть и пить, но подбирать яблоки или груши в чёрных пятнах плесени не стал. Стыдно признаться, но повинны в этом были не остатки гордости, а страх – упасть и больше не подняться.
4
После триумфа, на закате меня и ещё нескольких моих соплеменников привели на загородную виллу. Нам объявили, что теперь мы – рабы Вентидия Басса, не имеющие никаких иных прав, кроме беспрекословного повиновения своему господину. Каждому на шею надели кожаный ошейник с металлической пластиной, с именем нашего хозяина.
Моих земляков определили обрабатывать поля и виноградники. Я был так слаб и истощён, что не годился для этой работы. Полуживого, меня отослали на мельницу. Этот тесный каменный мешок с бойницами под потолком будет мне сниться, пока не придёт черёд идти в страну мёртвых.
Белая пыль постоянно висела в воздухе, толстым слоем ниспадала на всё вокруг, прилипала к потным телам, забивала глотку. Весь римский день – от рассвета до заката, вместе с тремя другими несчастными – сарматом и двумя галлами, я вращал тяжёлые каменные жернова, на которые по жёлобу струйкой ссыпалось зерно. За нами пристально следили надсмотрщики – рабы-германцы. Вооруженные бичами и палками, они пускали их в ход то и дело, не позволяя нам останавливаться. За месяц-другой кожа на моих боках так задубела, что стала похожа на шкуру осла или, верней сказать, зебры. Утренней и вечерней пищей нам служила неизменная болтушка, сделанная из тёмной муки грубого помола и воды из местной речки, да несколько подгнивших фиговых плодов. Только на Сатурналии – декабрьский праздник в честь бога Сатурна – мы получили по две кружки вина из виноградных выжимок, немного хлеба и оливкового масла.
Как я выжил на этой мельнице, не знаю…
В первые дни пребывания здесь только мысль о побеге и придавала мне силы. Но бесконечные, однообразные будни, полные тяжёлого труда, постоянного унижения, сменяли друг друга, унося последние надежды. Днём мы были под неусыпной охраной. Ночью нас приковывали цепями к железным крюкам, вбитым в стены каменного сарая.
Однажды, заметив мои попытки расшатать крюк в стене, угрюмый сармат остановил меня:
– Парфянин, прекрати это бессмысленное занятие! Неужели ты хочешь, чтобы из-за тебя нас всех клеймили калёным железом?
Его поддержал один из галлов:
– Ты или прирождённый глупец, или полный безумец. Остынь! Куда ты побежишь? Вокруг на много дней пути земли нашего господина. Отряды легионеров ловят беглецов… Если тебе удастся проскользнуть незамеченным и оказаться за чертой его владений, соседний землевладелец и даже его слуги почтут за счастье выдать тебя. По римским законам никто не имеет права дать убежище беглому рабу. А когда тебя поймают, ты будешь завидовать мёртвым. Тебя ждут каменоломни, где ты не протянешь до следующего полнолуния, или отправишься на арену к диким зверям и хищным муренам…
– Если ты не угомонишься, я придушу тебя… – пригрозил сармат.
Он так бы и сделал.
И я покорился судьбе, надеясь только на чудо.
Примерно через полгода после своего блистательного триумфа наш хозяин Публий Вентидий Басс тяжело заболел и умер.
Как я узнал потом, своих детей он не имел, и потому мог завещать имущество кому угодно. Незадолго до своей кончины Вентидий в пух и прах разругался со своим патроном Марком Антонием. В пику бывшему благодетелю он завещал виллу и земли его сопернику – Гаю Юлию Цезарю Октавиану.
Октавиан унаследовал громкий титул от своего знаменитого двоюродного деда Юлия Цезаря Августа, убитого заговорщиками в мартовские иды семь лет назад. Молодой Цезарь старался подражать великому родственнику и в необузданном стремлении к славе, и в тяге к единоличной власти. Марк Антоний, в свою очередь, почитал себя первым другом Цезаря и продолжателем его дел и ни за что не хотел уступать Октавиану первенство. Противостояние бывших соратников по второму триумвирату вот-вот грозило перейти в открытую войну. Пока же каждый из них вербовал себе сторонников в Сенате и в провинциях, запасался средствами для будущей кампании. Поэтому получение наследства от Вентидия было для Октавиана очень кстати.
Благоприятным это обстоятельство неожиданно оказалось и для меня.
Вскоре после смерти Вентидия осмотреть наследуемое поместье приехал Пол, вольноотпущенник Октавиана. Он появился на мельнице в сопровождении четырёх преторианцев, одетый, словно полноправный римский гражданин, в ослепительно-белую полотняную тунику и тогу, сотканную из тонкой шерсти. На его гладком, одутловатом, как у евнуха, лице застыла брезгливая гримаса.
Он, морщась и время от времени прикладывая к носу напитанный благовониями судариум – платок для вытирания пота, оглядел наши голые, грязные, изнурённые тела и устало спросил у старшего надсмотрщика:
– Откуда этот скот?
– Трое варваров с севера и один парфянин, благородный Пол, – почтительно доложил надсмотрщик.
– Кто из них понимает латынь?
И тут я не выдержал, хотя знал, что рабу под страхом смерти не положено открывать рот, пока не прикажут.
– Я говорю по-латыни. – И тут же получил удар плетью от стоящего рядом германца. Он замахнулся снова, но Пол остановил его.
– Поди сюда! – приказал он мне.
Не поднимая головы, я сделал шаг к нему.
– Кто ты, раб, и откуда родом? – спросил Пол.
– Я из Парфы… – выдохнул я. – Меня зовут…
– Обращаясь ко мне, ты должен добавлять «господин», – перебил Пол. – Тебе ясно, раб?
– Да, господин. – Я согласен был называть господином даже вьючного осла, если бы только он помог мне покинуть проклятую мельницу.
– Хорошо. Какие языки ты ещё знаешь?
– Греческий, арамейский, сарматский… господин. И немного язык даков и египтян…
Пол задумался на миг и произнёс несколько слов по-гречески.
– Лучше бы ты не родился или безбрачен погиб… – торопливо перевёл я знакомую с детства строфу из «Илиады». – Это Гомер… господин. Обращение Гектора к…
– Довольно, – высокомерно произнёс Пол, приложив судариум к мясистому носу. – Этот раб поедет со мной. Он может оказаться полезен…
5
Свобода похожа на воздух. Только когда начинаешь задыхаться, замечаешь его отсутствие.
Покинув злосчастную мельницу, я вдохнул полной грудью.
Меня отвели в балнею – холодную баню, где я впервые за несколько месяцев помылся со щёлоком и валяльной глиной, постриг волосы, сбрил отросшую бороду и переоделся в грубую, но чистую тунику. Избавившись от паразитов, терзавших моё тело злее и неустаннее, чем плети надсмотрщиков, я и впрямь ощутил лёгкое дуновение свободы.
– А ты вовсе не старый? – удивился Пол, когда я снова предстал перед ним. – Да у тебя просто атлетическое телосложение… Немного поправишься, и тебя можно будет выпускать на арену… – ухмыльнулся он.
Обойдя меня со всех сторон, приказал:
– Снимите с него ошейник и принесите стило и папирус.
Под диктовку я написал на папирусе несколько фраз, сначала на греческом, затем – на латыни. Мои руки, отвыкшие от подобных занятий, подрагивали, и приходилось прикладывать усилия, чтобы буквы в строчках не скакали, а сами строчки не съезжали вверх и вниз.
Пол прочитал написанное и распорядился моей дальнейшей судьбой:
– Ты будешь работать переписчиком рукописей в библиотеке Гая Азиния Поллиона. Смотри, старайся не подвести меня… Помни: от твоего старания зависит твоя будущая судьба…
– Я буду стараться… господин, – заверил я.
Пол больно ущипнул меня за щёку и похлопал пухлой ладошкой по плечу:
– Старайся…
Уже через день я приступил к работе в библиотеке. Построенная два года назад, она располагалась в отреставрированном портике храма Свободы на Авентийском холме. Многочисленные статуи полководцев и героев украшали её. Перед входом в центральный зал высилась скульптура Гая Юлия Цезаря, чей давний замысел о строительстве публичной библиотеки и сумел осуществить Гай Азиний Поллион.
Он некогда являлся яростным сподвижником Марка Антония, а ныне, отойдя от политики, посвятил себя литературе и благотворительности, успешно соперничая в этом благом деле с Гаем Цильнием Меценатом – известным далеко за пределами Рима покровителем искусств и человеком из ближайшего окружения моего нового хозяина Октавиана.
Пол, наставляя меня, проговорился, что именно Меценат подсказал ему идею определить в библиотеку к Поллиону «своего человека», чтобы исподволь знать, что там происходит, какие ведутся разговоры среди читателей – самых знатных и влиятельных людей Рима: политиков, поэтов, философов, а также выяснять их скрытые настроения, политические и литературные предпочтения и вкусы.
Этим «своим человеком» в лагере возможных оппонентов Октавиана и суждено было стать мне.
Чтобы не вызывать подозрений, старшему библиотекарю Марку Теренцию Варону сообщили, что я направлен сюда, дабы научиться всем тонкостям ухода за рукописями и табличками. Дескать, Октавиан задумал построить собственную библиотеку, где я впоследствии и смогу применить полученные знания.
Меня определили в греческий зал, ибо подлинных знатоков языка и культуры эллинов даже в многолюдном Риме найти было непросто.
В огромном греческом зале теснились стеллажи с плотно стоящими пронумерованными ящиками, где хранились папирусы и пергаментные свитки. Одну из стен, от пола до потолка, занимали полки с восковыми табличками, также имеющими свою нумерацию. У больших окон, выходивших в зелёный дворик с мраморным фонтаном и портиком, располагались три стола для переписчиков.
В зале меня встретил смотритель – грек-вольноотпущенник по имени Агазон. Он ткнул пальцем в сторону пустующего стола, определяя моё рабочее место. Про себя я сразу отметил, что имя смотрителя переводится с его родного языка как «хороший». И это показалось мне добрым предзнаменованием, хотя внешне, сутулый, как жреческий посох, худой и бледный, Агазон не вызывал симпатии.
Мне, двадцатилетнему, он представлялся древним, отжившим свой век старцем, хотя было ему едва ли больше пятидесяти лет. Его неразговорчивость и погружённость в какие-то размышления сбивали меня с толку, сумрачность казалась заносчивостью, а за молчанием мнились хитрость и подвох.
Впрочем, я и сам вовсе не стремился к откровениям.
В первые несколько дней Агазон только давал мне поручения переписать ту или иную рукопись и ворчал, бубнил что-то себе под нос, если я допускал ошибки.
И всё же этот старик-брюзга представлял собой куда меньшее зло, чем германец-надсмотрщик на проклятой мельнице. И ворчание Агазона не шло ни в какое сравнение с витой плетью германца.
Пол предупредил меня, что единственным моим господином является Октавиан, чьи приказы мне надлежит исполнять, а хозяин библиотеки Поллион, его помощник – библиотекарь, известный энциклопедист Марк Теренций Варон и пресловутый Агазон – мне вовсе не начальники. У них я должен научиться ухаживать за свитками, уметь правильно составлять каталог, находить нужную рукопись в хранилище. А главное – я всегда должен держать уши открытыми и обо всех разговорах, которые будут вести Поллион, его помощники и их гости, немедленно сообщать Полу – моему «истинному и единственному благодетелю», как не преминул заметить он.
Роль доносчика претила мне, никак не совпадала с моими представлениями о чести, но ничего иного, как заверить «господина Пола», что я всё понял и обязуюсь всё неукоснительно исполнять, увы, не оставалось.
Исполнять моё поручение оказалось делом непростым. Посетителей в нашем зале не было. Агазон же говорил со мной только о работе. Низким, словно простуженным голосом он отдавал короткие распоряжения: эту табличку смыть, этот пергамент подклеить, этот свиток переписать…
После безотрадного, скотского труда на мельнице всё это я выполнял с большим желанием и старанием. Отвыкшие от стила пальцы плохо слушались, но со временем навыки письма вернулись, и Агазон только одобрительно хмыкал, разглядывая сделанные мной копии.
Но особое удовольствие я получал от общения с самими рукописями и папирусами, хранящими мудрые мысли лучших умов Эллады: Фалеса, Солона, Парменида, Сократа, Аристотеля, Платона.
Разбирая свитки, я порой забывал и про еду, и про сон. Дух мой воспарял над обыденностью, обретал истинную свободу. Ибо не зря говорили древние: для мудреца открыта вся земля, весь мир – родина для высокого духа.
Я завёл себе за правило особенно понравившиеся высказывания мудрецов заносить на специальную восковую табличку, которую в свободные минуты доставал и перечитывал, пытаясь проникнуть в тайну их мудрости.
«С неизбежностью и боги не спорят» (Питтак).
«Несчастье легче сносить, когда видишь, что твоим врагам ещё хуже» (Фалес).
«Жизнь подобна игрищам: одни приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть» (Пифагор Самосский).
«Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, не существующих, что они не существуют» (Протагор).
«Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед. Быть же побеждённым самим собой всего постыднее и хуже. Это и показывает, что в каждом из нас происходит война с самим собой» (Платон).
«Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится» (Демокрит)…
Можно сказать, что в библиотеке Поллиона я почувствовал себя почти счастливым. Впервые с момента пленения.
О своём рабстве я и впрямь забывал, уносясь мыслями в эмпиреи духа. И только приходы Пола возвращали меня на грешную землю, напоминали об участи раба и тайного соглядатая…
6
Поначалу Пол появлялся в библиотеке нечасто, раз в две недели. Оставляя сопровождавших его рабов у входа, он важно вкатывался в зал, отсылал прочь Агазона и бесцеремонно усаживался на единственное курульное кресло – табурет на кривых ножках с сиденьем из слоновой кости, словно забывая, что это право принадлежит лишь высшим магистратам: консулам, преторам, квесторам, жрецам. И тут же на меня сыпались вопросы: кто приходил в библиотеку, о чём вел речь, какие новые свитки приобрёл Поллион, et setera, et setera…[3]
Пол пытливо вглядывался в меня своими круглыми, как у паучка, чёрными глазками: не утаил ли я чего-то важного? Я отвечал подробно и чувствовал облегчение, когда он уходил.
Тогда я и заподозрить не мог, что, помимо интереса ко мне как к доносчику, этим оплывшим жиром сластолюбцем движет ещё и неестественная, позорная страсть…
Со временем визиты Пола становились всё чаще: он взял за правило появляться в библиотеке каждую неделю. Усаживаясь на биселиуме – двухместной скамье, он предлагал мне присесть рядом. И после обычных расспросов о том, что происходит в библиотеке, рассуждал темно и туманно, как Пифия, о любвеобильных и жестоких римских богах, о римских героях. Перескакивая с одного на другое, он касался то моего колена, то руки. Его липкие прикосновения вызывали у меня желание вскочить и бежать прочь.
…Год назад, на войне, я впервые познал женщину. Это была пленная сириянка, совсем юная, в разодранной одежде и трясущаяся от страха. Её приволокли мои воины из только что захваченной крепости. От неловкого и скорого соития с ней, кусающейся и царапающейся, как зверёк, я не испытал ни радости, ни облегчения…
Вторая встреча с женщиной произошла на мельнице. На прошлые Сатурналии управляющий, в знак особой милости, привёл к рабам трёх обитательниц из лупанария – так римляне называют свои дома терпимости. Мне досталась темнокожая, толстая и уже немолодая жрица любви. Её грубые ласки не оставили в моей душе никакого следа, и слава богам, не наградили дурной болезнью. Но даже плотская любовь этой распутницы была более естественной, чем домогания Пола, и не казалась такой мерзкой…
Ещё в ранней юности я изучал историю Спарты, древних Фив и Крита. Там обычным делом считалась страсть мужчины к мужчине и женщины к женщине. Мой наставник-афинянин читал мне стихи Сапфо, славящие такие оргии. Но у нас в Парфе подобное являлось позором, лишающим воина чести, а женщину права называться порядочной. Так были воспитаны мои предки, так воспитывался и я.
Гнусные намёки Пола вызывали не только отторжение, но и гнев. Положение раба не оставляло возможности защитить свою честь иначе чем ценой жизни. И я был готов к этому. К тому же Пол, хоть и требовал называть его «господином», моей жизнью распоряжаться не мог. Возможно, поэтому предпочитал действовать больше намёками.
Однажды он заговорил со мной напрямую.
– Знаешь ли ты, чем отличается народ великого Рима от всех остальных народов? – спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Римляне взяли верх над всеми только благодаря дисциплине, умению повиноваться и умению повелевать. Это те добродетели, которые сделали римский народ несравненным и дали ему господство над другими…
Говоря это, Пол взял меня за подбородок и придвинулся ближе, обдав горячим и несвежим дыханием, которое не скрывали даже ароматные масла и благовония. Погладив меня по щеке влажными пальцами, он продолжил:
– И эта дисциплина, это повиновение распространяется не только на войско и магистраты, но и на всё общество. Так вот, мой мальчик, и тебе надлежит относиться ко мне по-римски: быть послушным и повиноваться… Во всём! Если ты, конечно, желаешь получить свободу и добиться успеха здесь, на своей новой родине… Возьми пример с меня!
Тут Пол стал торопливо развязывать пояс на моей тунике. Передо мной был уже не надутый слуга всесильного Октавиана, а развратный старик, стремящийся к удовлетворению своей похоти.
Глупая улыбка невольно искривила мне рот. Пол, не сводивший с меня сального взгляда, воспринял её по-своему.
– Да-да, удача улыбается тебе, мой мальчик, лови её! – Он попытался поцеловать меня в губы. Я увернулся, ощущая всё более острое чувство брезгливости, испытывая неудобство и досаду от того, что вынужден терпеть его мерзкие прикосновения.
– Господин, прошу вас не делать того, что противно самой природе!
Мои слова только раззадорили его.
– Да что ты знаешь о природе, мальчишка? Сами олимпийские боги не стыдились такой любви. Зевс любил Ганимеда, сына троянского царя Троса, Аполлон обожал Гиацинта и Кипариса, Пелопс был возлюбленным Посейдона… Великие умы и герои принесли подобные жертвы на алтарь Эрота. Геракл был неравнодушен к Иолаю, Полифему и Гиласу. Гомер, упоминая о Патрокле и Ахилле, называл их связь дружбой… Ближайшим другом и возлюбленным Александра Великого был Гефестион…
Пол так увлёкся перечислением великих грехопадений, что забыл о моём поясе.
– Скажу больше, наш патрон Октавиан добился усыновления своим блистательным дядей, только сдавшись ему на милость. Луций, брат Марка Антония, проболтался мне, будто Октавиан, уже после Цезаря, предложил себя консулу Авлу Гирцию за тридцать тысяч нуммов… Так, чтобы взлететь высоко, мой мальчик, надо покориться… Будь же благоразумен, не упускай своей фортуны…
Пол снова полез с поцелуями.
– Ну что ты ломаешься… – взвыл он, брызжа слюной, и вдруг перешёл на шёпот: – Даже Гай Юлий Цезарь, да будет благословенно его великое имя, начал свою блистательную карьеру благодаря близости с царём Вифинии Никомедом…
Щёки мои полыхали огнём. Уступать сластолюбцу я не собирался: лучше уж за неповиновение попасть в клетку со львами или в бассейн с муренами!
Я оттолкнул его и вскочил. Пол тоже вскочил. Он был взбешён, чёрные глазки его злобно вращались. Он ещё больше стал похож на паука, из сетей которого вырвалась добыча.
Он вцепился мне в горло своими короткими пальцами и стиснул так, что у меня потемнело в глазах…
В этот момент громыхнула дверь, и в зал вошёл Агазон. Он окинул Пола и меня быстрым взглядом и молча прошёл к стеллажам со свитками.
– Ничтожный раб… – прошипел Пол и выкатился прочь.
Глава вторая
1
Я предполагал, что расплата за мою несговорчивость будет суровой, и уже приготовился стать узником Мамертинской тюрьмы, что располагалась у северного подножия Капитолийского холма, а то и пополнить ряды гладиаторов…
Однако ни вечером этого дня, ни на следующее утро, ни через день я не был взят под стражу. Обо мне как будто забыли. Я не знал, что думать и чего ждать.
Неожиданно со мной заговорил Агазон.
– Этого толстого проходимца Пола сейчас нет в городе, – пояснил Агазон. – Октавиан отправил его к Агриппе, в Компанию.
– Меня вовсе не интересует, где находится этот… Пол… – довольно вызывающе отозвался я.
Агазон усмехнулся, но не зло, а скорее снисходительно:
– Моё дело – сообщить. Имеющий уши да услышит…
Он принялся перебирать свитки на столе. А я – переписывать древнюю и сильно обветшавшую рукопись.
Мы довольно долго работали молча. Меня не оставляла в покое мысль, надолго ли отправлен из Рима Пол.
Между делом я поинтересовался:
– Агазон, скажи, что нужно в Компании этому Агриппе?
Старый грек лукаво прищурился, отчего его худое, вытянутое лицо стало похожим на сморщенную грушу.
– Тебя, юноша, и правда интересует Марк Випсаний Агриппа, а не твой патрон Пол? – Но уже через мгновение он вполне серьёзно спросил: – Ты, должно быть, слышал про недавнее поражение Октавиана в битве при Мессине, где ему дал хорошую взбучку Секст Помпей?
Я торопливо кивнул. Агазон продолжал:
– Так вот, не сумев самостоятельно справиться с Помпеем, Октавиан, и это вполне в духе твоего господина, поручил совершить этот подвиг своему закадычному другу Агриппе…
– Но ведь Помпей обосновался на Сицилии. И туда ещё надо добраться…
– Ты прав. Чтобы снять блокаду с торговых путей и одолеть Помпея, этого императора пиратов, Агриппе надо иметь флот гораздо больший, чем у Помпея…
– Значит, Агриппа будет строить флот? – догадался я.
Агазон оживился:
– Верно! А чтобы построить флот и сделать это втайне от противника… – Он оборвал фразу на половине.
– …нужна надёжная гавань… – завершил фразу я.
Агазон удовлетворённо заметил:
– Ты правильно мыслишь, юноша. Агриппе действительно сначала нужно построить гавань. И, насколько мне известно, этим он безотлагательно и займётся на Лукринском озере.
– Но ведь от озера до моря день пути…
– Ты опять прав. Значит, Агриппе ещё надо будет построить канал между Лукринским и Авернийским озёрами. Последнее уже имеет прямую связь с морем. Соединив озёра, Агриппа будет иметь сразу две гавани: внутреннюю и внешнюю. Останется только построить квинкиремы, которых нет у Помпея, оснастить их метательными машинами и абордажными воронами…[4]