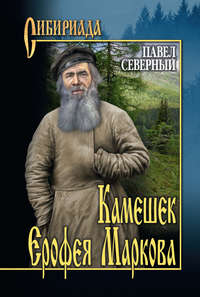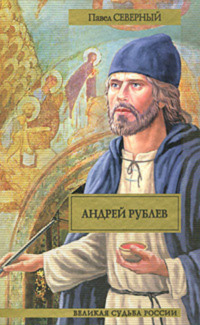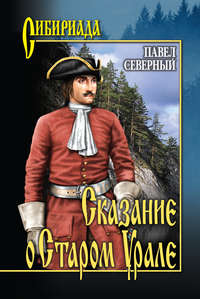Полная версия
Связанный гнев
Вспышки в камине освещали лицо Мещерского: блестящий лысый череп; лицо – костистое, сухое; кожа на нем натянулась настолько туго, что нет морщин; маленькие черные глазки сидят глубоко; когда веки прикрыты, кажется, что их нет в глазных впадинах. Тонкие злые губы не оживляют окаменевшее лицо. Но у князя красивые руки с тонкими холеными пальцами.
– Курить разрешите? – спросил гость.
– Прошу. Может быть, хотите сигару?
– Нет. Курю только папиросы. – Князь вынул из портсигара толстую папиросу. Щипцами добыл из камина красный уголек и от него закурил.
– Ваше сиятельство!
Князь, обернувшись к хозяину, удивленно спросил:
– Зачем же так официально, Леонид Михайлович? Вы уж лучше меня по имени. О чем хотели спросить?
– Вам известно, что мною подано прошение об отставке?
– Несомненно. Разве все еще не получили на него милостивое соизволение от государя?
– Нет.
– Вот ведь до чего подла наша чиновничья волокита.
– Разрешите считать, что вы прибыли сменить меня!
– Пресвятая Владычица! Как могла такая мысль осенить вас? Меня даже в жар бросило от вашего вопроса.
– Тогда, может быть, вам известно решение Его Величества?
– Несомненно! Должен вам сказать, – Мещерский сделал многозначительную паузу. – О вашем прошении в Петербурге, в известных кругах, было много разговоров. Я слышал, что государь был согласен удовлетворить ваше желание. Согласна была с его решением и августейшая матушка, но в дело вмешалась императрица Александра Федоровна и категорически воспротивилась, потребовав от супруга не отпускать вас с поста в такое сугубо смутное для империи время. Вот так! Вам-то ведь известно, что наш милейший по мягкости характера государь не в состоянии пойти против желания своенравной супруги.
– Вот как? А мне казалось, что именно государыня поддержит мое желание.
– Нет, Леонид Михайлович! Теперь сумасбродная немка, разогнав всех честных и преданных людей, окружив государя знатной лебезящей перед ней кликой[3] – поняла, наконец, что натворила кое-какие глупости. Вы думаете, ее не тревожат недавние крамольные беспорядки? Тревожат. Но она своенравна до самозабвения. Вмешивается в государственные дела. Представьте, пробовала интриговать против Столыпина. Но Петр Аркадьевич не таков. Он дал ей понять кое-что. Конечно, пойти на такой шаг Столыпин рискнул только после того, как ощутил поддержку родового дворянства.
– Считаете, что таковая поддержка надежна?
– Не понял вопроса?
– Хотел сказать, что дворянство весьма непостоянно в своих симпатиях не только к сановникам, но и к самодержцам.
– Отчасти, пожалуй, в ваших словах есть доля правды. Но в данном случае могу заверить, что сегодня столичное дворянство искренне предано Столыпину. Мы видим в нем спасителя России от многих бед. Мы видим в нем честного слугу династии. И, пожалуйста, не сомневайтесь в том, что он сильная личность, особа, необходимая империи, чтобы вывести ее снова на светлый путь былого благоденствия и мирного жития.
– Удивило меня…
– Что?
– Ваше мнение о государыне. Мне известно, что недавно были ее ревностным поклонником. А теперь вам не нравится ее немецкое происхождение.
– Сущую правду изволили сказать. Боготворил ее образ. Восхищался ее умом. Все это было до тех пор, пока не убедился, что она не смогла, вернее, не сумела обрести среди нас истинно русскую душу.
– Странно слышать об этом. Неужели надеялись, что если ее перекрестят в православную веру, то она мгновенно обретет русскую душевность? Согласитесь, что и у наших дворянок души тоже бывают разные, хотя по рождению они истинно русские.
– А вы по-злому судите о дворянах?
– Сердит на них. Ибо сам имею честь состоять в этом сословии. Сержусь оттого, что мне не по душе моральный облик современного дворянства. Правда, оно перестало душить себе подобных, но пакости творить между собой не перестало. Ведь для нас все хороши, пока смиренно и послушно льют воду на нашу мельницу. Чуть не по-нашему, то сразу начинаем низвергать кумиров если не физически, то нравственно. Ведь помните, как императрицу Марию Федоровну травили только за то, что она датчанка и в ней нет светского блеска? И, конечно, не станете отрицать, что окажись на месте гессенской принцессы – русская, и ее бы травили, если бы не шла на поводу у дворянства. Наша государыня – крепкий орешек. Многие уже поломали зубы. Она оказалась не из тех, что преклоняются перед чванством нашей родовитости. Она, наоборот, всех заставила себе кланяться в пояс. Не удастся нам привести ее к покорности. В одном вы правы, что она не любит возле себя наших дворян. Даже льстящих не любит. Платит той же монетой, какой платим ей мы. Кажется, теперь вы удивлены?
– Испуган сказанным. Пребывая вдалеке, вы решаетесь выносить слишком опасные для себя суждения.
– Не согласны, что издалека лучше видно? Что может быть для меня опасным? Жизнь на Урале приучила меня быть смелым. Посему и сужу обо всем реалистично и беспристрастно.
– Беспристрастность ваша убедительна. Но вы живы, а посему любые опасности для вас не исключены. Лично рад, что государь не удовлетворил вашей просьбы об отставке. Ваши суждения в Петербурге сулили бы вам мало приятного. Нашлись бы даже недоброжелатели, записавшие вас в ряды умалишенных. Вот и выходит, что длительная оторванность дворянина от соприкосновения со своей средой служит ему не на пользу. И уж ежели между нами начался подобный разговор, попрошу вас со всей откровенностью поставить меня в известность, что именно в последние годы служило причиной, вынуждавшей империю сотрясаться от нелепых волнений.
– Увольте, князь! Ответить на вопрос со всей откровенностью не смогу. Многого сам толком не понимаю. Мешает происхождение и убеждение. Однако считаю, что трагедия поражения нашего оружия в японской войне явилась стимулом, переполнившим чашу обид и унижений, вызвавшим воскресший порыв национальной гордости, заставившим рабочих взяться за оружие.
– И начать отвратительный бунт?
– В пятом и шестом годах проявились проблески революции. В них были уже признаки продуманного революционного замысла. Правда, еще слишком путаного, разнобойного. Причина тому – разлады революционных партий, споры вожаков о главенстве на право свержения монархии.
– Надо было углубить эти споры, чтобы они расшибли себе лбы. Умней надо было действовать кому следует.
– А что, если уже поздно? Что, если у господ революционеров появился человек, способный сыскать путь к единству революционных действий?
– Плеханова имеете в виду?
– Нет. На смену ему пришел другой революционер. Он воспитал себя в Енисейской губернии для собственного революционного замысла.
– Помилуй бог, Леонид Михайлович, про кого говорите?
– Говорю о присяжном поверенном Ульянове. О сыне симбирского дворянина.
– Позвольте, позвольте! Ульянов? Не брат ли он повешенного Александра Ульянова, обвиненного в покушении на государя Александра Александровича?
– Родной брат.
– Вот как? – Мещерский встал на ноги. Достал из портсигара папиросу, помяв ее в пальцах, задумавшись, подошел к свечам и от огня одной из них прикурил.
– Слышал я о государственном преступнике Александре Ульянове многое. Главное, меня заинтересовало его самообладание на судебном процессе. Представьте, сам защищал себя крамольной речью. Может быть, и братец такой же непреклонный. Ведь может стать опасным человеком?
– Уже стал. По должности мне приходилось читать издаваемую им «Искру». Не без внимания прочитал и его нелегальные печатные труды. И должен признать, что все, что написано Владимиром Ульяновым, оставалось против моего желания в памяти. Его мысли заставляли задумываться и даже соглашаться с силой его революционных аргументов. У этого человека дьявольская способность уверять, что именно он может в нашей полуграмотной стране создать из рабочих здравомыслящую революционную партию, способную восстать против самодержавия.
– Почему его не уничтожат? Неужели, пребывая в Петербурге, не знали, что рядом с вами на берегах Невы в прошедшие два года проживал этот самый Ульянов-Ленин?
– Не может быть.
– Может! Хваленая столичная полиция и жандармерия позволяли ему руководить революционными действиями.
– Уму непостижимо.
– Постижимо и реально. Пора Петербургу начать думать о спасении империи серьезно. Пора всем, кому надлежит беречь трон, перестать хлопать ушами и окриками на губернаторов наводить в империи порядок. Когда по стране скакали казаки и пороли всех попадавших под руку, Ульянов-Ленин с улыбкой наблюдал нашу растерянность, примечал малейшие ошибки в подавлении беспорядков, улучшая по ним свои позиции на пути к будущему осуществлению своего революционного замысла.
– Допускаете мысль?
– Допускаю!
– Когда?
– Кто знает? У революционеров, как и у нас, есть время. Готовиться!
– Сохрани, Господи, Россию с нами грешными! – Мещерский перекрестился…
– Беда, князь, в том, что Ульянов зовет рабочих и крестьян к классовой борьбе, отдавая свершение своего замысла в руки рабочего класса. Ему верят, Василий Петрович. Это я могу подтвердить.
Губернатор взял со стола канделябр со свечами, подняв его над головой, осветил на стене карту Урала:
– Взгляните на уральские просторы! Видите булавки с красными головками?
– Вижу.
– Ими обозначены тайные революционные очаги. Они существуют, но губернатору, жандармерии и полиции их местопребывание неизвестно.
– А каково значение белых булавок?
– Места, где мы их как будто искоренили с помощью наших агентов, среди которых мало способных.
– Надо хорошо платить. Деньги помогут.
– Петербург скуп. Вы в нем надеетесь что авось все обойдется. Поубивают полицейских и губернаторов, прихватят какого-нибудь министра. Вам ведь их не жалко. Лишь бы не вас.
Замолчав на высоком накале голоса, губернатор поставил свечи на стол, открыл на письменном столе малахитовую шкатулку, достал из нее трубку, набил табаком и закурил.
– Василий Петрович!
– Слушаю.
– При случае, в столичных салонах все же расскажите, почему пермский губернатор не хочет стать трупом от очередного выстрела. Может быть, и не по политическим мотивам.
– Опять не понял!
– Второй раз на меня в Перми покушался купчишка, выполняя желание шансонетки-француженки. Она обещала стать его любовницей, если он убьет губернатора. Убивать губернаторов теперь модно. Купчишка с пьяных глаз промахнулся, а неведомый следующий стрелок может и попасть.
– Что вы, что вы! Типун вам на язык. Два раза чудесно спаслись под охраной Божьей десницы. Господь к вам милостив! Кажется, постучали.
– Входите!
В кабинет вошел молодой чиновник.
– Что случилось?
– Телеграмма, ваше превосходительство, из города Соликамска. В полдень сегодня там от взрыва бомбы погиб исправник.
– Хорошо, Павел Сергеевич, я подумаю, что предпринять. Вы свободны.
Чиновник вышел из комнаты. Князь сокрушенно покачал головой:
– Подумать только, как здесь легко потерять жизнь за верность царю и отечеству.
– Убитый две недели назад уверял меня, что революционное подполье в Соликамске зажато и пикнуть не смеет. А оно не только не молчит, а даже стреляет.
– Погибший был хорошим человеком?
– Исполнительным. Жалею, что известие испортило вам настроение. А поэтому поедем в театр. Там сегодня «Кармен».
– Лучше не стоит, Леонид Михайлович! После нашего разговора хочется сосредоточиться и подумать.
– Но при этом не падать духом. Грейтесь у камина, а я пойду и распоряжусь об ужине.
Губернатор ушел. Мещерский вновь сел к камину, плотно завернувшись в халат.
В неплотно прикрытую дверь полоса яркого света дотянулась почти до вольтеровского кресла. Из глубины дома глухо донесся бой часов. Пробили они семь звонов…
Глава III
1Реки Большая и Малая Кушвы приютили на своих берегах по-уральски вольготно раскинувшийся Кушвинский завод. У него в крае громкая слава от того, что в двух верстах среди холмистой местности высится, главенствуя над заводом, величественное чудо Урала – гора Благодать. С западной стороны гор примыкает обширная возвышенность, которая, снижаясь улицами, переулками-кривушами и тупиками селения, дотягивается до заводского пруда.
Основанный в 1736 году завод теперь Гороблагодатского округа, и с лет, как окрест него сыскались платина и золото, живет шумно, сытно и пьяно, превратившись в место, где водятся гнезда золотопромышленников.
2Миллионщик Влас Воронов жил возле пруда. Его каменный дом в два этажа с трех сторон окружал черемуховый сад. Парадный ход дома под навесом с колоннами. Ворота покрашены темно-синей краской. По улице вдоль всего фасада протянулся палисадник с березами и кустами сирени.
Ранним утром, когда зимний восход только начинал золотить крест на часовне горы Благодати, стенные часы в парадном зале вызвонили седьмой час.
По сумрачному коридору, позевывая и шаркая частыми шажками, семенила экономка Марья Щукина. Дойдя до дверей хозяйкиной опочивальни, она по привычке остановилась у окна.
Щукина стала жительницей вороновского дома в тот же день, когда его хозяйка вошла в него из-под венца. Щукина – подружка хозяйки с детства. Выросли обе в захудалой деревеньке на реке Чусовой. Босоногими из-за нужды из родных мест ушли на прииски подле Кушвы. Подружка – Фиса Кротова – неожиданно с приисков вышла замуж за Власа Воронова. Став богатой, Анфиса Михайловна не кинула подружку, а взяла ее в свой дом. Щукина, очутившись в Кушве, окунулась в заботы чужой семьи и не приметила, как состарилась в девках, хотя на нее поглядывали хорошие мужики, но она была в этом привередлива.
Постояв у окна, увидев все такое знакомое и привычное на дворе в утреннюю пору, Щукина зашла в опочивальню. В горнице темно. Заставлена она старомодной мебелью из карельской березы, горками невьянских сундуков и шкафами. На столике возле кровати в серебряном подсвечнике, оплывая, догорала свеча и лежал журнал «Нива».
Анфиса Михайловна Воронова в молодые годы была видной по пригожести девичьего лица, а потому даже в подошедшей старости с него еще не сошли черты былой миловидности. Пришла она на прииск своего будущего мужа малограмотной. Сама не знала, чем полонила сердце Власа. Выйдя за него замуж, жадно потянулась к образованию, и теперь могла похвастаться, что перечитала множество книг. Для мужа оказалась хорошей помощницей в делах по золоту, родила ему дочь и сына, веселиться не отказывалась, а главное – умела находить слова бодрого утешения, когда на мужа накатывала хмурость от всяких неудач.
Щукина, увидев горящую свечу, подошла к столику, чтобы ее погасить, но услышала голос хозяйки:
– Доброе утро, Маруся! Раскинь шторы.
– Как поспала, любезная? – Щукина, послюнявив пальцы, загасила свечу. – Опять с утра меня сердишь.
– Чем, скажи на милость?
– Свечой, матушка! – Щукина отдернула на окнах шторы, впустив свет все еще с предутренней синевой.
– Видать, пасмурно седни?
– Не разглядела, потому носа на волю не высовывала. Рано. Только восьмой час заступил.
Воронова улыбаясь, позвала подругу:
– Поди сюда! – Когда Щукина подошла к кровати, взяла ее за руку. – Ворчунья ты, Маруся!
– Сама посуди, как на тебя не ворчать. Поди, с полуночи читала? Никак не уразумеешь, что всех книжек не перечтешь. Ноне, матушка, кому не лень пишут. Раньше только Пушкин на всю Россию писал. А ноне, не приведи Господь, сколько сочинителей развелось. На Каменном поясу и то свой водится.
– Разве Мамин-Сибиряк не достойный писатель? Горжусь, что лично с ним знакома.
– Я его не охаиваю. Только к слову помянула, что и у нас свой, уральский, водится. Человек он умный и уважаемый.
– Ишь как ловко вывернулась. Поди, не все его сочинения читала?
– А где мне в твоем доме для чтения время взять? Аль не видишь, что задыхаюсь от твоего хозяйства на плечах? К чему завела речь о твоем запойном чтении? Глаза вконец портишь. Позабываешь, что доктор говорил, который раз за три года стекла в очках менял. Чать, не малолеток. Должна понимать, что можно, а что и не дозволено.
– От другого у меня, Маруся, глаза худеют.
– Знаю. Не вздумай их сейчас слезой мыть! Знаю, отчего в твоих глазах немочь.
– Читала сегодня вовсе малость. Больше лежала и думала, отчего от Ксюши письма долго нет.
– Оттого и нет, что не дозволяют ей часто писать.
– Раздумалась о доченьке, а заснув, не погасила свечу. В чем, конечно, виновата.
– Разве порядок? От свечи до пожара недалеко.
– Не серчай, Марусенька.
– Да разве смею на тебя серчать? Скажи лучше, как болесть в ногах ночью донимала?
– Сегодня не шибко.
– Потеряла я начисто покой, как стала ты ногами маяться. Мочили мы их с тобой по делу и без дела во всякой водице, вот теперь твои и корежит болезнь. Мои, видать, крепче твоих выдались, а ведь и их тоже иной раз ломит.
– Влас дома?
– Да ты что? Чуть свет на пруд подался. Своего любимчика – рысака Филина – к бегу учит. Сказывают люди, что на Масленке собирается на гонки записаться. И когда утихомирится мужик! Седой, а все куролесит! Заговорилась с тобой. В столовой станешь чай пить или сюда принести?
– Вместе с тобой напьюсь в столовой. Не слыхала?
– Про что?
– Про Захарыча Макарова?
– Да ты что? Ежели бы он объявился в Кушве, то к тебе в первую очередь заявился с книжечками. Все накупаешь их и накупаешь. Пять шкапов книгами заставила.
– Влас как-то сказывал, что Макаров недавно пострадал из-за книжек.
– Слыхала. А сам виноват. Плохо глядит, чем торгует. Полиция ноне к любой печатной бумажке лапу тянет.
– Как легко обо всем судишь!
– Как умею.
– Время такое подошло. Люди, Маруся, правду своей судьбы ищут. Вспомни про прииск, как мы, недовольные хозяевами, ее тоже искали. Тогда и мы о правде своей жизни думали.
– Да скоро перестали, когда за думы перед носами кулаки увидели.
– Перестали думать, когда сытно зажили. Забыла ты?
– Помню, матушка. Всякому своя судьба на роду писана. Теперь так понимаю. Сколь бедняк не бунтуй против богатого, толку не выйдет. Нагляделась, как за поиск правды казачки кушвинских мастеровых нагайками до крови гладили. Вот и Ксюша наша. Да не мое дело о таком судить. Ты грамотнее меня. Мое дело беречь тебя, главное, от материнского горя. Сама встанешь?
– Сама.
– Тогда дозволь уйти.
* * *Морозным утром Кушва в солнечной позолоте.
От безветрия дым заводских труб столбами поднимался к чистому небу. Солнечные лучи искристыми переливами вспыхивали в опушке куржи[4] на ветках деревьев. Стрекотавшие сороки, перепархивая с веток, осыпали иней.
По улице берегом пруда шагал высокий старик Иннокентий Захарович Макаров, опираясь на суковатую трость. Под его подшитыми валенками скороговоркой поскрипывал снег. У старика борода с густой проседью. На ней и на усах ледяшки от остывшего дыхания. Лицо старика в морщинах, выскобленных пережитыми годами. На голове соболья шапка; воротник шубы поднят; в левой руке путника связка книг.
В это время на кухне у Вороновых молодая женщина в расстегнутой кофте, старшая кухарка, хлопотала возле русской печи, сажая в нее противни с ватрушками и шанежками. Услышав покашливание у дверей, она, не оборачиваясь, спросила:
– Кто прилез?
Вошедший в кухню кучер Лукьян ответил глухим голосом:
– Знамо, я, Аграфена Семеновна.
– Чего надо в экую рань?
– Сказать пришел.
– Про что? – Аграфена, обернувшись, оглядела Лукьяна, но почувствовав на себе мужской ощупывающий взгляд, торопливо начала застегивать кофту. – Лезешь завсегда не вовремя. Да и из себя пригож. Опять зенки с пьяной придури заплыли?
– Винюсь. С горя ночесь стакашник опрокинул в себя. На тебе в этом вина. Обещалась, а не пришла.
– Кому врешь? Стакашник. От одного веки не распухнут.
– Понимай, голубушка, чать, ты для меня судьба.
– Поняла, потому и не пришла. Эдакий ты мне ни к чему. Я женщина с требованием к мужикам. А от тебя дух винный.
– Мне без тебя не жить.
– Обещал мне клятвенно к вину не касаться?
– Винюсь.
– Сказывай, зачем пришел?
– Аграфена Семеновна, прости сперва!
– Сказывай! А то ухват в руку возьму. Знаешь, какая характером.
– Ночью у Глыбиных у студента, который ребят обучает, фараоны в вещичках копались.
– Не скажи! Врешь, поди?
– Право слово. Заарестовали его.
– За что же? Человек он такой обходительный. Всегда на поклон ответит. И на лицо приятный.
– Нашли у него какие-то книжки супротив царской власти.
– Господи!
Но отворившаяся дверь помешала разговору. Вошел Макаров.
– А тебе чего надо? – раздраженно спросила Аграфена, недовольная, что незнакомый человек помешал ее разговору с кучером.
Не ответив на вопрос, Макаров отвернул воротник и снял шапку. Аграфена, узнав пришедшего, растерявшись, удивленно всплеснула руками:
– Господи! От волнения-то не признала вас разом, Иннокентий Захарович. Да чего же это вы в кухню заявились? Чать, в дому вы самый желанный гостенек.
– Раненько явился, вот и решил попервоначалу тебя, Семеновна, проведать. По нонешним временам в домах надо все входы и выходы знать.
– Давай помогу разоболочься.
Аграфена приняла от Макарова шубу на беличьем меху. Старик расчесал гребнем бороду и волосы. Подойдя к печке, приложил к ней ладони.
– Студено седни. Хозяина вашего сейчас на пруду углядел. Рысака по кругу гоняет.
– Филина гону обучает. Книжек-то опять сколь приволокли. Хозяйке радость.
– Ты грамотная?
– Упаси бог. Жить без грамоты спокойней. Своим умом живу, а то от книжек с чужой мудростью башка болеть зачинает.
– А чем встревожилась с утра?
– Хороший человек в беду попал. Лукьян новость принес. Сделай милость, Иннокентий Захарович, скажи мне, что будет человеку, ежели у него книжки супротив царя найдут?
– Тюрьма по нонешним временам. Смотря какие книжки. За иные могут и в сибирскую ссылку сослать!
– Ну беда!
– У кого такие книжки нашли в Кушве?
– Да у студента, жительствующего у купца Глыбина.
– Бедняга хлебнет горя.
– С кем лясы точишь, Семеновна? – спросила, спускаясь в кухню по лестнице Щукина, но, увидев пришельца, пошла к нему навстречу.
– Пришел, Иннокентий Захарыч? Легок на помине. Только недавно с Анфисушкой про тебя вспоминали. Пойдем наверх. Обрадуем болящую.
– Ревматизм донимает?
– И не говори.
– Плохо обихаживаете. Сейчас я с ней потолкую.
Макаров взял с лавки связку книг.
– Поди, интересные на сей раз привез?
– Заказывали мне графа Толстого Льва Николаевича творение «Война и мир». Хорошим изданием разжился.
В столовой на столе, заставленном всякой снедью, возвышался самовар. Возле него в кресле Анфиса Михайловна Воронова, а по правую руку от нее Макаров. Хозяйке дома он тоже давний дружок. Вместе перемывали пески на прииске в годы молодости. Правда, Макаров раньше ее ушел от песков в сторону, занявшись книжной торговлей, а теперь уже тридцать лет занимался этим, имея в Екатеринбурге книжный магазин. Это Макаров приохотил Воронову к чтению. С мужем ее дружил, детей хорошо знал. Одним словом, все ведая о богатом доме, частенько навещал его.
Чаевничать они начали под разговор о новых книгах. Однако Макарову хотелось поскорей узнать, есть ли вести от Ксении Вороновой из Сибири, но спросить медлил, боясь разволновать Анфису Михайловну, зная, как она тяжело переживает разлуку с дочерью. Но неожиданно Воронова спросила Макарова о его недавнем аресте в Уфе. Он, помрачнев от вопроса, ответил:
– Арестовали в ночное время. Ночевал у приятеля-железнодорожника. Донос был на меня. Обвиняли в торговле запрещенной литературой.
– А ты впрямь ею торговал?
– Не прерывай. Про то тебе знать незачем.
– Правду стал от меня утаивать?
– Не всякую правду должна знать. За нее я два месяца на койке отлежал.
– Неужели били?
– Было дело под Полтавой. Теперь обучен битьем полицейского кулачка. Да и нагаечку изведал, и того есаульчика, забайкальского казачка, хорошо запомнил на всякий случай.
– Не томи. Нашли у тебя ту литературу?
– Как не так! За то и били, что найти не смогли. Времена тугие, Михайловна, по всему царству российскому. В Кушве тоже казаки гостили.
– Не без этого. Только управитель потребовал убрать их от нас. Народ рабочий из-за них волновался.
– Чепуху говоришь, Михайловна. Воля управителя в этом деле малюсенькая. Убрали от вас казаков по другой причине. В другом месте понадобились. Беспокойно на Южном Урале. Не утихает народ на заводах и приисках подле Таганая. Туда их погнали. Нонешний год, пожалуй, не лучше пятого и шестого окажется. Обманный манифест государь подарил людям.
– А ты почем знаешь про такое?
– Про многое знаю.