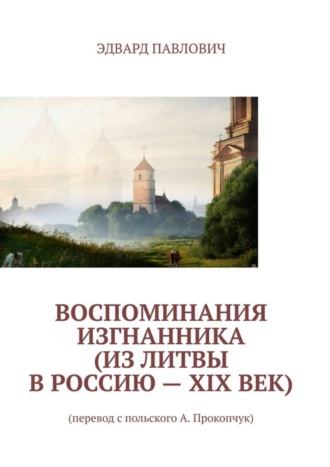
Полная версия
Воспоминания изгнанника (из Литвы в Россию – XIX век)
Пусть из этих стен * (доминиканский монастырь в Новогрудке, прим. пер.), из которых когда-то вышел великий пророк, гений народа, засияет свет во все самые темные закоулки этого города и окрестностей. Мы пронесем этот свет!
Последствия моего воззвания дали свой результат. Его зачитал Вл. Борзобогатый из Верескова в день именин маршалка Брохоцкого широкому кругу собравшейся шляхты. Зерно упало на подготовленную почву. Проект основания библиотеки и читальни был принят.
Через несколько дней я был вызван для представления плана и образования комитета, с целью составления сметы и создания фонда для сбора средств. Обязан сказать в этой связи, что неоценимую пользу делу оказал сам Борзобогатый, который пожертвовал для библиотеки несколько десятков ценных изданий. Не прошло и нескольких недель, как мой план, задуманный в вечерней тиши у подножья стен старых замковых башен, стал известным в повете (уезде) и крае. Об этом плане написали газеты, не скупясь на похвалу авторам. Так случилось, что опубликованый в газетах проект, был горячо принят, и стал делом жизни.
Посыпались отовсюду взносы, приходили книги, деньги, так что через несколько недель можно было уже открыть двери публичной читальни и пункт проката книг из библиотеки, которая стала насчитывать уже около 2000 книг. Первый сановник уезда, почетной куратор библиотеки, благородный маршалок Брохоцкий, пожертвовал значительную сумму на начальные расходы. Вице-куратором был выбран князь Эймонт, касссиром стал д-р Карпович, администратором кн. Башкевич. Я стал директором с обязанностями библиотекаря.
Все в уезде, занимающие какое-либо положение или претендующие на хороший тон и уважение, посчитали своим долгом записаться в библиотеку, в это новое учреждение.
Это был, следовательно, всплеск общественного мнения, с которым надо было считаться, который, если не доминировал пока еще, но уже укрепил свои позиции. Вопрос был не только в существовании этого предприятия, он затронул и вполне обоснованные права на контракт с властями.
Когда на весах общественного мнения находилась судьба библиотеки, я неожиданно получил официальное письмоотдиректора публичной библиотеки в Петербурге, барона Корфа, который узнал из газет об основании библиотеки в Новогрудке, и вежливо предложил свою помощь и поддержку, что обычно и практикуется в нашей сфере. Известие о признании наших заслуг в высоких сферах столицы, как молнией поразило членов клуба и, что более важно, повлекло за собой скорейшее решение вопроса, который долго затягивался у губернатора. Клуб находился в этом же здании.
Одним словом, со всех сторон подул благоприятный ветер. В скором времени клуб распался, захирел, и, наконец, был закрыт. Мы победили. Клубное помещение было передано библиотеке, с некоторым разочарованием наших противников, среди которых, надо признаться, было несколько серьезных особ.
Осталось следовательно заняться устройством помещений, что также вскоре, к общему удовольствию, и было выполнено. Был открыт абонемент для жителей города и сел, с учетом прав молодежи, и бедноты, которые освобождались от платы за него. Стали выписываться периодические журналы, часть из которых редакции отправляли нам бесплатно. Члены-основатели обязались вносить ежегодно в фонд библиотеки 10 рублей, получая при этом льготы (легитимационные карточки). Благородный обыватель Бильчинский, из Козлович, пожертвовал несколькими сотнями ценных изданий. Киркор* прислал свои публикации из Вильны, за ними пошли другие.
В помещениях, прилегающих к библиотеке, была устроена читальня, открытая бесплатно, с 9-ти утра до l0-ти вечера, с двухчасовым перерывом на обед. Суббота была отведена для выдачи книг гимназистам, а после прочтения книг, от них требовался краткий отчет о прочитанном, об их успехах при обучении.
Казалось бы, что наше бескорыстное дело, дающее видимые результаты, приносящее несомненную пользу населению, должно было бы пробудить людей, не должно было встретить среди них сопротивление, или еще хуже пренебрежение. Случилось иначе. Новогрудский уезд, как и любой другой, как каждая общественная группа, включал в себя и тех, кто косо смотрел на новое. Как всегда и везде, где коррумпированная пресса не была выражением общего мнения. Дело пробивалось с трудом. И случаи сопротивления общему делу скоро представились.
Был определенный круг шляхты из мародеров стародавнего времени, которому я и маршалок не нравились. Почему? – я не знаю. Может потому, что мы пробуждали общество, в его движении вперед видели главную цель повышения благополучия края. Но все наши инициативы лишь вызывали насмешки с той стороны. Это был кружок людей, которые выискивали лишь самые нелепые стороны в жизни, в этой среде с давних пор, выпекались фарсы разного содержания, часто потешные, но редко благородные. Так вот и в нашем случае, который получил широкую огласку, они не отказали себе в удовольствии подвергнуть насмешке серьезное общее дело, опустить его до уровня комедии.
Удалось им это или нет – оставим на суд читателя. Мы не откроем их фамилий, потому что одни уже предстали перед Божьим судом, другие приближаются к тому берегу. Современники догадаются, а нашим потомкам лучше бы о них не знать. Достаточно только упомянуть о них, о путях человеческого духа, определить дороги, по которым должно идти общество, и показать аморальность некоторых поступков на этой дороге.
Вот что они предприняли. Было ими сфабриковано письмо от барона Корфа, почетного куратора библиотеки, которое повлекло за собой последующую переписку. Вызванный этим письмом ответ маршалка, в котором была низко оценена проделанная нами работа, компроментировал ее участников, особенно тех, кто принимал непосредственное участие в ней. Они не промахнулись, попали в цель. Побуждения распространителей этого письма были ничтожны, боль от этой мерзости была тем неприятней, что исходила из круга высокопоставленных особ в общественной иерархии края и даже Польши.
Однако, хотя это коснулось лично многих участников этого дела. в итоге принесло пользу, так как мнимая отставка барона Корфа в Губернии, уже считающаяся свершившейся, только привлекла большее внимание общественности к судьбе библиотеки. К тому же привела и к более снисходительному отношению властей к нам.
Отказали нам только в вывеске над дверями – «Библиотека и читальня».
* Из записок свидетеля времени, их последней роскоши, и одновременно о других домах новогрудского уезда, Адольф Кобылинский из Цешевли.
* Wspomnienia zbliska i z daleka. przeszłości i obecnym upadku*.
* Последний наследник, Константин Тугановский, умер в виленской тюрьме в 1863 году, а после его смерти скончались его жена и две дочери.
** Покоится в склепе в Своротне
* Тот костел после 1863 года был конфискован в пользу русской православной общины.
* «Стены» принадлежали ранее доминиканскому монастырю, конфискованному властями.
*(польск. Adam Honory Kirkor), Адам Гонорий Киркор
(21.01.1818, Сливино, Мстиславский уезд, Могилёвской губернии – 23.11.1886, Краков) – литератор, исследователь литовских и беларуских древностей, издатель.

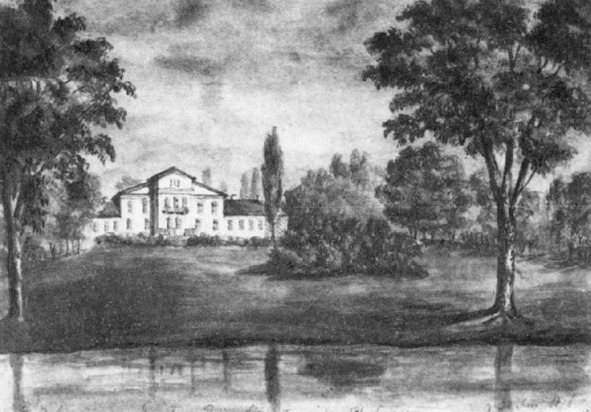
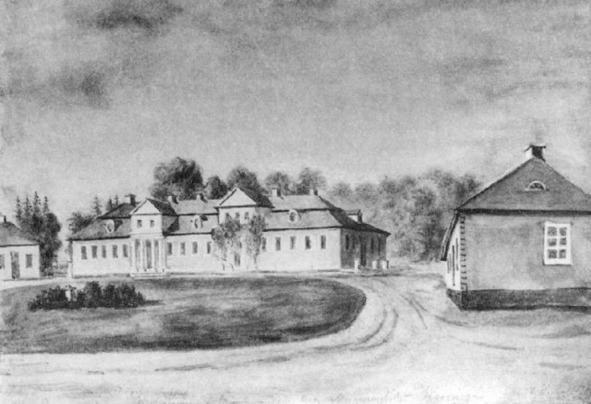
Имение графа Тышкевича
Так среди волнений и трудов подошло время для моих каникул. Я провел их в Городке, в имении графа Тышкевича, неподалеку от Минска. Мне там предложили выполнить копию картины Мюллера «Свадебный танец в окрестности Неаполя». Я принял это предложение тем более охотно, что уже познакомился с манерой этого мастера, его экспрессией и колоритом, так как уже делал в Париже копию с одной его картины. Меня привлекал еще и контраст его замысла. И возможность работать в таком оригинальном имении.
Это имение было расположенная на склоне горы, у темного бора, обступающего берега озера, в небольшом дворце, в виде английского Cottege (котеджа). Кроме богатых альбомов, акварелей и рисунков, здесь были собраны шедевры самых выдающихся мастеров современного искусства, таких как H. Vernet’, Gudin’, Müler, Verbunkow, Calam или, Ridel, автор римлянки спускающейся к купальне, на фоне, сотканном из из солнечных бликов и теней. Одним словом, там можно было встретить многое из того, что он мог собрать, что наполняло мир красотой, прекрасным вкусом и артистической фантазией знатного владельца, известного своей щедростью в стране и за ее пределами.
А если добавить, что имение окружала вокруг природная красота и особая тишина литовской пущи, что там так легко и свободно можно было себя чувствовать, то легко себе вообразить, каким было там пребывание каждого, кого сельская жизнь, сосредоточенность духа и высокие эстетические горизонты, заставляли забыть оглушающий городской шум. Несколько лучших недель своей жизни я там провел за работой и дивными экскурсиями, целью которых чаще всего была очаровательная Холявщизна, славящаяся в то время святостью места, и толпами паломников. *
После возвращения в Новогрудок я сменил квартиру. Мне предоставилась возможность жить в том месте, о котором давно мечтал, а именно, в тиши под сводами монастырских стен. В то время по распоряжению властей доминиканский монастырь был передан под управление новогрудского ксендза, который учел доходы жильцов и, когда другие костелы были закрыты, перенес службы и свою квартиру из удаленного от города костела, в эти стены. Там же из давней монастырской библиотеки и хранилища было сделано помещение для жилья в две комнаты с прихожей, которые я и занял.
Трудно было найти для проживания место, более соответствующее моему нраву, более возвышающее мой дух. От костела мое жилье отделяла только одна стена. Внизу была ризница, а совсем рядом, под костелом, погребальные ниши. Окна с одной стороны открывали вид на старые липы монастырского сада и стены, где когда- то была школа, из которой вышел Мицкевич. В конце длинного коридора проживали викарии, а далее ксендз Эймонт, честнейший по всем меркам, окна его жилья выходили во внутренний дворик монастыря. Мое жилье было единственным в своем роде, в нем было все, что было мне необходимо, чего я жаждал, где я мог спокойно работать. Это была обитель, к которой меня вынесли бурные волны моей жизни. И как недолго я этому радовался *.
Моя профессия артиста-художника, если ее так можно назвать, в то время не считалась благодарной. Каждый, кто чувствовал в себе хотя бы частицу Божьей искры, не думал о предстоящем развитии искусства, о том, что оно вскоре будет чудесным образом принято нашим обществом.
Ни известность, ни знакомство, ни и связи не способствовали успеху. Портрет, более или менее удавшийся, мог удовлетворить моих редких почитателей занятиями живописью. Артист, если имел успех, был обязан скорее своей личности, нежели достоинствам художника. Доказательством сказанному можно привести успех профессора Виленского университета Рустема. Опасный, правда, успех, если не знать, каким он был поверхностным.
Для чувствительной души, для пламенного воображения, для сердца, открытому всему прекрасному, нелицемерному сердцу, которое верит, и как небезопасное судно, скользит по жаждущему раздолью великосветских сфер, поверхность которых иногда отражает небеса, а глубины прячут скалы и мели… А ведь именно там искусство могло найти себе приют, найти прибежище.
Сколько нужно было иметь силы воли, а еще больше благородной гордости, любви к искусству, чтобы в этих тщеславных салонах, которые так охотно открывались молодому художнику, где скучающие и остывшие сердца хотят погреться у огонька поэзии и искусства, среди наслаждений будуаров, овеянных пьянящей атмосферой, чтобы не споткнуться, не заблудиться в этом полусвете, полутени…
Первой моей художественной работой была картина Станислава Костки, патрона учащейся молодежи, который пожертвовал ее для алтаря гимназии. Я выполнил ее по копии Риберо (Espagoleto), которую рисовал в Риме, в галерее Боргезе. Следующей работой была картина к алтарю Св. Филомены, заказанная жителями города. В свободное время я руководил реставрацией костела. В большом алтаре работал художник, который не справился с работой и я был вынужден сам, собственноручно, выполнить работы по алтарю напротив амвона. Тогда же был установлен новый, роскошный орган, привезенный из Райцы, для которого был построен амвон, его не взяли в только что построенную там церковь. Было это превосходным вложением в общее дело моего тезки, Бененедикта Павловича. Он же руководил его установкой в Новогрудке, за пару лет перед своей смертью.
За такими занятиями меня застигла осень, наступила зима. Это было время, как говорится, не до танцев, а скорее для траура, начались наши новые беды. Фатальные выстрелы в Варшаве в безоружную молящуюся толпу, отозвались болезненным эхом в сердцах всего народа.
Тем временем, село, провинциальная власть, вели себя по разному. Комитеты в губерниях и Петербурге занимались всем, что представляло интерес для общества. Власть перед лицом приближающегося освобождения, искала известных и компетентных в этом вопросе людей. Посыпались проекты, часть из них попадала ко мне со всех сторон. «Несколько слов литовца» передали мне, как беспристрастному, но горячему борцу. Мое работа скоро стала местом столкновения всяких интересов.
А между тем, школьная молодежь охотно училась, читательский зал был переполнен, опустели трактиры и шинки в городе и окрестностях. Происходили благоприятные перемены во взаимоотношениях «усадьба-сельская хата». Одним словом, работа на ниве просвещения и возрождения, хотя и запоздалая, становилась общепринятой.
В один вечер, в тесном кругу, в окружении маршалка, завязался разговор об общем настроении общества, потом об обычной жизни, идущей своей колеей, о том, что требует ежедневных усилий, о пище, о развлечениях, о проведении длинных зимних вечеров. Как и чем занять общество, если не игрой в карты и танцами? Чем заполнить длинные зимние вечера, ведь достаточно в нем образованной молодежи обоих полов, которая наполнена кипучей энергией? Ей уже мало невинных игр с соседями. Предложили любительский театр.
Эта мысль, появившаяся однажды вечером, вдохновила всех, всем понравилась. Был образован комитет под началом маршалка, который сразу же сделал взнос, а мне досталась честь стать директором, декоратором, а когда это будет нужно, то и актером на новогрудской сцене. Не хватало мне еще и этого ко всем моим делам! А мне еще приходилось заниматься дамским пансионом, школой для евреев, которые мне все время напоминали о ней, чувствовали себя уже почти поляками, а еще и гимназией. Так что нетрудно вообразить, какое движение начиналось в обществе, в старом городе Миндовга, как поднялся уровень жизни и настроений его жителей.
Конечно, всю эту работу и дополнительные обязанности, за исключением правительственной гимназии, я и мои коллеги выполняли бесплатно. Что касается театра, то несмотря на рисование декораций в неотапливаемом, холодном зале, зимой, что было нелегко и подрывало здоровье, к карнавалу все было готово, театр открылся комедией Кореневского «Panna mężatka» (Замужняя госпожа. пер. польск.)
Успех превзошел все ожидания.
Дамы сыграли свои роли, как опытные артистки. И пошло – «Zemsta» (Месть) «Dożywocie» (Заключение), «Nikt mię nie zna», (Никто меня не знает), Fredry; – «Majątek albo imię» (Кошелек или жизнь), «Odludki i Poeta» (Отшельник и поэт), «Округа с песенками и tancami», и тому подобное. Достаточно было сюжетов и за кулисами, не уступающих пьесам на сцене. Словом, это был успех во всех отношениях, а имена господ и дам положивших столько трудов на почву искусства, надолго остались в памяти.
Таланты и прелесть новогрудских дам, их успех на новогрудской сцене, были настолько велики, слава так разошлась по соседним уездам, что не было конца потоку съезжающихся в Новогрудок, нельзя было найти жилье для приезжих, а цены стали баснословные. Понятно, что и билеты надо было заказывать задолго до представления.
Надо отдать должное и вспомнить Бронислава Нарбута, чей талант способствовал успеху.
Доход от театральных представлений вскоре позволил внести 400 рублей на реставрацию костела и оплатить расходы малоимущих учеников *.
* Имение конфисковано в 1863 году.
* Разрушен в 1863 году. Костел и монастырь был основан гетманом Хадкевичем в 1624 году.
* Этот замечательный костел был в 1863 году конфискован для нужд православной церкви.
Зима 1861
Прошла зима, наступил 1861 год, были выполнены контракты, которые своим великолепием превзошли все ожидания. В 4-м номере «Kuryera wilenskiego» (Виленский курьер) за 1861 год я обо всем, что видел, кратко написал для жителей края…
Убежденный в том, что нельзя молчать, когда надо высказаться, я взялся за перо. До того дня наша провинциальная жизнь, серая как осеннее небо, бессодержательная, нудная, не искала высоких целей в пошлой жизни. Все застыло, леденило душу и не отваживалось дать внутренним порывам выход.
Если быть справедливым, то это длилось долго. Но наступило время, которое, как трубы архангела, призвало к жизни, к действию, к поступкам. Наше общество, как человек пробудившийся от летаргического сна, который хотя и слышал вокруг голоса жизни, звуки природы, не имел ни сил, ни веры в себя. Еще не звучал в его груди призыв к действию, еще не могло оно ответить на эти призывы.
Но жизнь уже пульсирует в крови, и глаз видит дальше, и пробуждаются силы и вера.
Город Миндовга, колыбель Адама (Мицкевича), Новогрудок пробуждался, появлялись признаки новой жизни, появлялось понимание высших целей. Мне приятно сказать, что на первое место жители Новогрудка поставили образование, что нашли свое место наши усилия и в только что открытой гимназии, и в библиотеке, и в читальне, открытой на общественные средства.
Работа в области пропаганды воздержания от алкоголя и повышения образования населения дала исключительные результаты. Мне доставляет радость отметить, что закрытие трактиров и ограничение продажи водки стали конечным результатом нашей работы среди населения.
Понимание значимости этого дела, чувство долга, убеждали, что только совместными усилиями духовенства и общества можно вырвать народ из нищеты и унижения, и вернуть утраченное доверие к нашим высоким помыслам. Дать душам подлинное утешение, разъяснить им их гражданский долг. Civis romanus (лат. яз.), Citoyen (франц. яз. гражданин), гражданин, в понимании благородных людей, это не те недобросовестные выскочки, себялюбивые спекулянты, разрушители усадеб, старых беззащитных замков… Это не, так называемые, «передовые предприниматели», которые торгуют слезами и спокойствием края, эксплуатируют страну.
Имена этих господ, хотя их окружает блеск золота, клеймо на общественном мнении, их окаянные поступки на их совести, их отвратительная партия, так называемая Malaparty.
Есть еще, правда, немало нейтральных представителей из прошлых лет, тех, кому по душе старые порядки. Эти люди привыкли пользоваться привилегиями, давно забыли о своих обязанностях, и видя что мир идет вперед, бездеятельные и гордые, отошли в сторону, «e pur si muove»» («а все таки она вертится», пер. с франц…) Но их было немного.
Работа, тот до тех пор бывшая анахронизмом в жизни провинциального жителя, приобретала все большее уважение и значение. Общее благо становилось выражением многих интересов. Высокие умы, горячие сердца, люди таланта, профессии, работали, заключали проекты, с целью расширения земледелия, промышленности, финансовых операций, развития связи. Общественность организовалась в промышленные ассоциации разного рода деятельности. Одним словом, общество пером и выступлениями, здесь и там, пользовалось случаем сказать правду, продвинуть дальше строительство будущего. Это, несомненно, отряды мужественных первопроходцев, которые стали бороться с безразличием, апатией заплесневевшего окружения. В этой борьбе не одно сердце не выдержало, но они проложили дорогу другим, подняли призывные флаги, показали истинные цели гражданам.
Понимало свои обязанности, дух времени и новогрудское духовенство. Уже несколько недель молящиеся, по примеру пробста (настоятель) слушали проповеди на понятном для них языке. Хвала священникам, которые не потеряли ощущения принадлежности к обществу, что работу в Божьем винограднике восприняли не как тяжелую обязанность, но как сладостное ярмо, как милость Божью. Время наступило для размышлений, чтобы проникнуться тем, чтонет ничего выше этой работы на обширной ниве, что не идет речь о словесах, риторических фразах, написанных для тонкого, немногочисленного слоя, привыкшего к словам, который чаще всего их и не слушает, этих гроссмейстеров слова, мировых трибунов. Речь шла о тихой работе, без претензий и шумихи, на девственной и плодородной ниве, на которой каждое брошенное зерно давало тысячный урожай, каждое слово, согрело теплом сердца.
…На селе тоже можно было увидеть успехи, появились дома, где были открыты сельские школы, господские дамы становились во главе этих школ, где бывшие героини будуаров, наши туристки, дефилирующие прежде по парижским бульварам, из чувства долга стали знакомиться с жизнью под крестьянской крышей, оказывать там медицинскую помощь, учить сельских детей молитве, принципам веры, обязанностям человека.
Таких случаев было немного, но они вдохновили других. Несомненно это были оазисы среди пустыни, как воздух они были нужны, чтобы в сердце отчаявшегося путешественника, в его жаждущую душу вселить надежду, дать ему источник чистой веры и надежды, наполнить любовью. Так густые тени ночи сражаются с предутренним светом, но уже на горизонте румянится заря, бледнеет ночь. Может быть, и для нас взойдет солнце правды!
На летние каникулы я уехал сначала к друзьям в предместье Гродно, а потом в Друскеники. В Гродно я стал свидетелем событий, которые повторяли варшавские демонстрации, с молодежью, которую специально направили из Варшавы, чтобы втянуть Литве в такие же события, что и происходили в Королевстве (Польском, прим. пер.). Там я воочию убедился, насколько опасны эти игры с разгневанным обществом.
Гродно
Гродненская демонстрация, которая шла в сторону Розового источника, должна была встретиться с такой же из Королевства, и если не закончилась кровавой драмой, то только благодаря такту гродненского ксендза Маевского, а также благоразумия и человечности генерала Гольдгонера (швед), начальника местного гарнизона. Однако все это не помешало арестовать и выслать ксендза Маевского в Сибирь, в город Курган *.
Подавленный и измученный, остаток каникул я провел в милой моей душе околице Гродно, в общине, в нескольких милях от города. Это были сохранившиеся со старых времен уголки, где в домах можно было встретить прежнюю литовскую учтивость, и где воспитанность была важнейшей рекомендательной карточкой гостя.
К таким уголкам относился дом Леопольда Валецкого в Вилянов-Озере. Дом стоял в диком лесу, среди больших озер, неподалеку от городка, известного своими фабриками и ярмарками.
Мгновения проведенные с Обуховичами в очаровательной усадьбе над Неманом, словно созданной для художника, влекли к себе каждого, кто увлекался музыкой, которой отдавалась госпожа дома. Или литературой, в которой искали пищу для ума и сердца. Быстро там пролетали часы, и дни, а иногда и недели, такая здесь была аура, атмосфера спокойствия, что так отличала эту литовскую усадьбу *.
Усадьба Головач над Котрой, принадлежала Чечотам. Хозяин этого места – страстный охотник, любитель музыки, энтузиаст, настоящий тип шляхтича, разгульного и сердечного, был неродным потомком этой фамилии.
Хубинка, принадлежащая Ромерам, была домом, широко открытым всем гостям! А хозяйка дома – истинное воплощение литовской сердечности, прелестью своего голоса и красотой души очаровывала всех, заставляла забыть о заботах и горестях жизни.
Там можно было чувствовать себя как дома, в кругу своей семьи.
Наконец, Котра, принадлежащая Богаткам, лежащая среди рощ, на берегу живописной реки, со своим старым костелом, окруженным могилами, со своими курганами – в тени берез и дубов, тихая, чарующая, манила каждого, кто ее знал и кто хотя бы раз погостил в ней. Здесь всегда шумел рой людей, для которых образование, наука, талант, и, прежде всего честность и высокие помыслы, не были пустым звуком.
Кем были жители этой усадьбы, кто был ее владелец? – Пусть меня выручит подруга их тяжких дней, госпожа Елена Скирмунт, оставившая записи своих воспоминаний об изгнании в Тамбов*.
А вот что писал мне о ней Богатко в то же самое время, когда я находился в Олонце. Он ожидал в то время приезда дочки и жены, из дома Гадона в Жмуди, и когда те приехали, госпожа Елена записала в своем календаре: «оба очень теплые и добрые; в порыве бросаюсь к ним, хотя и говорю. что это опасно».



