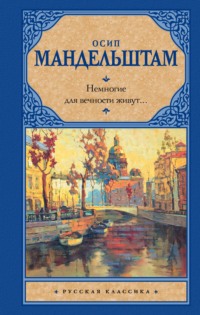полная версия
полная версияНежнее нежного (сборник)
Отрывки уничтоженных стихов
1В год тридцать первый от рожденья векаЯ возвратился, нет – читай: насильноБыл возвращен в буддийскую Москву.А перед тем я все-таки увиделБиблейской скатертью богатый АраратИ двести дней провел в стране субботней,Которую Арменией зовут.Захочешь пить – там есть вода такаяИз курдского источника Арзни,Хорошая, колючая, сухаяИ самая правдивая вода.2Уж я люблю московские законы,Уж не скучаю по воде Арзни.В Москве черемухи да телефоны,И казнями там имениты дни.3Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкойНа молоко с буддийской синевой,Проводишь взглядом барабан турецкий,Когда обратно он на красных дрогахНесется вскачь с гражданских похорон,Иль встретишь воз с поклажей из подушекИ скажешь: гуси-лебеди, домой!Не разбирайся, щелкай, милый кодак,Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,А не стекляшка!Больше светотени!Еще, еще! Сетчатка голодна!4Я больше не ребенок!Ты, могила,Не смей учить горбатого – молчи!Я говорю за всех с такою силой,Чтоб нёбо стало небом, чтобы губыПотрескались, как розовая глина.«На высоком перевале…»
На высоком перевалеВ мусульманской сторонеМы со смертью пировали —Было страшно, как во сне.Нам попался фаэтонщик,Пропеченный, как изюм, —Словно дьявола поденщик,Односложен и угрюм.То гортанный крик араба,То бессмысленное «цо» —Словно розу или жабу,Он берег свое лицо.Под кожевенною маскойСкрыв ужасные черты,Он куда-то гнал коляскуДо последней хрипоты.И пошли толчки, разгоны,И не слезть было с горы —Закружились фаэтоны,Постоялые дворы…Я очнулся: стой, приятель!Я припомнил, черт возьми!Это чумный председательЗаблудился с лошадьми!Он безносой канительюПравит, душу веселя,Чтоб вертелась карусельюКисло-сладкая земля…Так в Нагорном Карабахе,В хищном городе Шуше,Я изведал эти страхи,Соприродные душе.Сорок тысяч мертвых оконТам видны со всех сторон,И труда бездушный коконНа горах похоронен.И бесстыдно розовеютОбнаженные дома,А над ними неба мреетТемно-синяя чума.«Как народная громада…»
Как народная громада,Прошибая землю в пот,Многоярусное стадоПропыленною армадойРовно в голову плывет:Телки с нежными бокамиИ бычки-баловники,А за ними – кораблями —Буйволицы с буйволамиИ священники-быки.«Сегодня можно снять декалькомани…»
Сегодня можно снять декалькомани,Мизинец окунув в Москву-реку,С разбойника-Кремля. Какая прелестьФисташковые эти голубятни:Хоть проса им насыпать, хоть овса…А в недорослях кто? Иван Великий —Великовозрастная колокольня.Стоит себе еще болван болваномКоторый век. Его бы за границу,Чтоб доучился… Да куда там! стыдно!Река Москва в четырехтрубном дыме,И перед нами весь раскрытый город —Купальщики-заводы и садыЗамоскворецкие. Не так ли,Откинув палисандровую крышкуОгромного концертного рояля,Мы проникаем в звучное нутро?Белогвардейцы, вы его видали?Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!..Мне кажется, как всякое другое,Ты, время, незаконно! Как мальчишкаЗа взрослыми в морщинистую воду,Я, кажется, в грядущее вхожу,И, кажется, его я не увижу…Уж я не выйду в ногу с молодежьюНа разлинованные стадионы,Разбуженный повесткой мотоцикла,Я на рассвете не вскачу с постели,В стеклянные дворцы на курьих ножкахЯ даже тенью легкой не войду…Мне с каждым днем дышать всё тяжелее,А между тем нельзя повременить…И рождены для наслажденья бегомЛишь сердце человека и коня.И Фауста бес, сухой и моложавый,Вновь старику кидается в реброИ подбивает взять почасно ялик,Или махнуть на Воробьевы горы,Иль на трамвае охлестнуть Москву.Ей некогда – она сегодня в няньках,Всё мечется – на сорок тысяч люлекОна одна – и пряжа на руках…Какое лето! Молодых рабочихТатарские сверкающие спиныС девической полоской на хребтах,Таинственные узкие лопаткиИ детские ключицы…Здравствуй, здравствуй,Могучий некрещеный позвоночник,С которым поживем не век, не два!..«О, как мы любим лицемерить…»
О, как мы любим лицемеритьИ забываем без трудаТо, что мы в детстве ближе к смерти,Чем в наши зрелые года.Еще обиду тянет с блюдцаНевыспавшееся дитя,А мне уж не на кого дуться,И я один на всех путях.Линяет зверь, играет рыбаВ глубоком обмороке вод —И не глядеть бы на изгибыЛюдских страстей, людских забот.«Там, где купальни-бумагопрядильни…»
С. А. Клычкову
Там, где купальни-бумагопрядильниИ широчайшие зеленые сады,На Москве-реке есть светоговорильняС гребешками отдыха, культуры и воды.Эта слабогрудая речная волокита,Скучные-нескучные, как халва, холмы,Эти судоходные марки и открытки,На которых носимся и несемся мы,У реки Оки вывернуто веко,Оттого-то и на Москве ветерок.У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,Оттого на Яузе утка плывет.На Москве-реке почтовым пахнет клеем,Там играют Шуберта в раструбы рупоров,Вода на булавках, и воздух нежнееЛягушиной кожи воздушных шаров.Батюшков
Словно гуляка с волшебною тростью,Батюшков нежный со мною живет.Он тополями шагает в замостье,Нюхает розу и Дафну поет.Ни на минуту не веря в разлуку,Кажется, я поклонился ему:В светлой перчатке холодную рукуЯ с лихорадочной завистью жму.Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.И не нашел от смущения слов:Ни у кого – этих звуков изгибы…И никогда – этот говор валов…Наше мученье и наше богатство,Косноязычный, с собой он принесШум стихотворства и колокол братстваИ гармонический проливень слез.И отвечал мне оплакавший Тасса:Я к величаньям еще не привык;Только стихов виноградное мясоМне освежило случайно язык…Что ж! Поднимай удивленные брови,Ты, горожанин и друг горожан,Вечные сны, как образчики крови,Переливай из стакана в стакан…Стихи о русской поэзии
I
Сядь, Державин, развалися,Ты у нас хитрее лиса,И татарского кумысаТвой початок не прокис.Дай Языкову бутылкуИ подвинь ему бокал.Я люблю его ухмылку,Хмеля бьющуюся жилкуИ стихов его накал.Гром живет своим накатом —Что ему до наших бед? —И глотками по раскатамНаслаждается мускатомНа язык, на вкус, на цвет.Капли прыгают галопом,Скачут градины гурьбой,Пахнет городом, потопом,Нет – жасмином, нет – укропом,Нет – дубовою корой!II
Зашумела, задрожала,Как смоковницы листва,До корней затрепеталаС подмосковными Москва.Катит гром свою тележкуПо торговой мостовойИ расхаживает ливеньС длинной плеткой ручьевой.И угодливо-покатаКажется земля – пока,Шум на шум, как брат на брата,Восстает издалека.Капли прыгают галопом,Скачут градины гурьбойС рабским потом, конским топомИ древесною молвой.III
С. А. Клычкову
Полюбил я лес прекрасный,Смешанный, где козырь – дуб,В листьях клена – перец красный,В иглах – еж-черноголуб.Там фисташковые молкнутГолоса на молоке,И когда захочешь щелкнуть,Правды нет на языке.Там живет народец мелкий,В желудевых шапках все,И белок кровавый белкиКрутят в страшном колесе.Там щавель, там вымя птичье,Хвой павлинья кутерьма,Ротозейство и величьеИ скорлупчатая тьма.Тычут шпагами шишиги,В треуголках носачи,На углях читают книгиС самоваром палачи.И еще грибы-волнушкиВ сбруе тонкого дождяВдруг поднимутся с опушкиТак – немного погодя…Там без выгоды уродыРежутся в девятый вал,Храп коня и крап колоды,Кто кого? Пошел развал…И деревья – брат на брата —Восстают. Понять спеши:До чего аляповаты,До чего как хороши!«Дайте Тютчеву стрекозу…»
Дайте Тютчеву стрекозу —Догадайтесь, почему.Веневитинову – розу,Ну а перстень – никому.Баратынского подошвыРаздражают прах веков.У него без всякой прошвыНаволочки облаков.А еще над нами воленЛермонтов – мучитель наш,И всегда одышкой боленФета жирный карандаш.«Не искушай чужих наречий, но постарайся их…»
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:Ведь всё равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!О, как мучительно дается чужого клекота почет:За беззаконные восторги лихая плата стережет!Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный ротВ последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.«Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг…»
Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг —Язык бессмысленный, язык солено-сладкийИ звуков стакнутых прелестные двойчатки…Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!«Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…»
Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,Как был при Врангеле – такой же виноватый.Комочки на земле. На рубищах заплаты.Всё тот же кисленький, кусающийся дым.Всё так же хороша рассеянная даль.Деревья, почками набухшие на малость,Стоят как пришлые, и вызывает жалостьПасхальной глупостью украшенный миндаль.Природа своего не узнает лица,И тени страшные Украйны и Кубани…На войлочной земле голодные крестьянеКалитку стерегут, не трогая кольца.«Квартира тиха, как бумага…»
Квартира тиха, как бумага,Пустая, без всяких затей,И слышно, как булькает влагаПо трубам внутри батарей,Имущество в полном порядке,Лягушкой застыл телефон,Видавшие виды манаткиНа улицу просятся вон.А стены проклятые тонки,И некуда больше бежать,И я как дурак на гребенкеОбязан кому-то играть.Наглей комсомольской ячейкиИ вузовской песни бойчей,Присевших на школьной скамейкеУчить щебетать палачей.Пайковые книги читаю,Пеньковые речи ловлюИ грозное баюшки-баюКолхозному баю пою.Какой-нибудь изобразитель,Чесатель колхозного льна,Чернила и крови смеситель,Достоин такого рожна.Какой-нибудь честный предатель,Проваренный в чистках, как соль,Жены и детей содержательТакую ухлопает моль.И столько мучительной злостиТаит в себе каждый намек,Как будто вколачивал гвоздиНекрасова здесь молоток.Давай же с тобой, как на плахе,За семьдесят лет начинать —Тебе, старику и неряхе,Пора сапогами стучать.И вместо ключа ИпокреныДавнишнего страха струяВорвется в халтурные стеныМосковского злого жилья.«Мы живем, под собою не чуя страны…»
Мы живем, под собою не чуя страны,Наши речи за десять шагов не слышны,А где хватит на полразговорца,Там припомнят кремлевского горца.Его толстые пальцы, как черви, жирны,И слова, как пудовые гири, верны,Тараканьи смеются усищаИ сияют его голенища.А вокруг него сброд тонкошеих вождей,Он играет услугами полулюдей.Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,Он один лишь бабачит и тычет,Как подкову, дарит за указом указ:Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.Что ни казнь у него – то малина,И широкая грудь осетина.«Как из одной высокогорной щели…»
Как из одной высокогорной щелиТечет вода – на вкус разноречива —Полужестка, полусладка, двулична, —Так, чтобы умереть на самом деле,Тысячу раз на дню лишусь обычнойСвободы вздоха и сознанья цели…Из Петрарки
I
Valle che de’lamenti miei se’ piena…
Petrarca[1]Речка, распухшая от слез соленых,Лесные птахи рассказать могли бы,Чуткие звери и немые рыбы,В двух берегах зажатые зеленых;Дол, полный клятв и шепотов каленых,Тропинок промуравленных изгибы,Силой любви затверженные глыбыИ трещины земли на трудных склонах:Незыблемое зыблется на месте,И зыблюсь я… Как бы внутри гранитаЗернится скорбь в гнезде былых веселий,Где я ищу следов красы и чести,Исчезнувшей, как сокол после мыта,Оставив тело в земляной постели.II
Quel rosignuol, che si soave piagne…
Petrarca[2]Как соловей, сиротствующий, славитСвоих пернатых близких, ночью синей,И деревенское молчанье плавитПо-над холмами или в котловине,И всю-то ночь щекочет и муравитИ провожает он, один отныне, —Меня, меня! Силки и сети ставитИ нудит помнить смертный пот богини!О, радужная оболочка страха! —Эфир очей, глядевших в глубь эфира,Взяла земля в слепую люльку праха —Исполнилось твое желанье, пряха,И, плачучи, твержу: вся прелесть мираРесничного недолговечней взмаха.III
Or che’l ciel et la terra e’l vento tace…
Petrarca[3]Когда уснет земля и жар отпышет,И на душе зверей покой лебяжий,Ходит по кругу ночь с горящей пряжейИ мощь воды морской зефир колышет, —Чую, горю, рвусь, плачу — и не слышит,В неудержимой близости всё та же:Целую ночь, целую ночь на стражеИ вся как есть далеким счастьем дышит.Хоть ключ один – вода разноречива:Полужестока, полусладка. УжелиОдна и та же милая двулична?Тысячу раз на дню, себе на диво,Я должен умереть на самом деле,И воскресаю так же сверхобычно.IV
I di miei più leggier’ che nessun cervo…
Petrarca[4]Промчались дни мои – как бы оленейКосящий бег. Срок счастья был короче,Чем взмах ресницы. Из последней мочиЯ в горсть зажал лишь пепел наслаждений.По милости надменных обольщенийНочует сердце в склепе скромной ночи,К земле бескостной жмется. СредоточийЗнакомых ищет, сладостных сплетений.Но то, что в ней едва существовало, —Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,Пленять и ранить может, как бывало.И я догадываюсь, брови хмуря, —Как хороша – к какой толпе пристала —Как там клубится легких складок буря…Утро 10 января 1934 года
IМеня преследуют две-три случайных фразы, —Весь день твержу: печаль моя жирна.О боже, как жирны и синеглазыСтрекозы смерти, как лазурь черна…Где первородство? Где счастливая повадка?Где плавкий ястребок на самом дне очей?Где вежество? Где горькая украдка?Где ясный стан? Где прямизна речей,Запутанных, как честные зигзагиУ конькобежца в пламень голубой,Когда скользит, исполненный отваги,С голуботвердой чокаясь рекой?Он дирижировал кавказскими горамиИ, машучи, ступал на тесных Альп тропыИ, озираючись, пустынными брегамиШел, чуя разговор бесчисленной толпы.Толпы умов, влияний, впечатленийОн перенес, как лишь могущий мог:Рахиль гляделась в зеркало явлений,А Лия пела и плела венок.IIКогда душе столь торопкой, столь робкойПредстанет вдруг событий глубина,Она бежит виющеюся тропкой —Но смерти ей тропина не ясна.Он, кажется, дичился умираньяЗастенчивостью славной новичкаИль звука-первенца в блистательном собраньи,Что льется внутрь в продольный лес смычка.И льется вспять, еще ленясь и мерясь,То мерой льна, то мерой волокна,И льется смолкой, сам себе не верясь,Из ничего, из нити, из темна,Лиясь для ласковой, только что снятой маски,Для пальцев гипсовых, не держащих пера,Для укрупненных губ, для укрепленной ласкиКрупнозернистого покоя и добра.IIIДышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось.Кипела киноварь здоровья, кровь и пот.Сон в оболочке сна, внутри которой снилосьНа полшага продвинуться вперед.А посреди толпы стоял гравировальщик,Готовый перенесть на истинную медьТо, что обугливший бумагу рисовальщикЛишь крохоборствуя успел запечатлеть.Как будто я повис на собственных ресницах,И созревающий, и тянущийся весь, —Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицахЕдинственное, что мы знаем днесь.«Мастерица виноватых взоров…»
Мастерица виноватых взоров,Маленьких держательница плеч.Усмирен мужской опасный норов,Не звучит утопленница-речь.Ходят рыбы, рдея плавниками,Раздувая жабры. На, возьми,Их, бесшумно охающих ртами,Полухлебом плоти накорми!Мы не рыбы красно-золотые,Наш обычай сестринский таков:В теплом теле ребрышки худыеИ напрасный влажный блеск зрачков.Маком бровки мечен путь опасный…Что же мне, как янычару, любЭтот крошечный, летуче-красный,Этот жалкий полумесяц губ…Не серчай, турчанка дорогая,Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;Твои речи темные глотая,За тебя кривой воды напьюсь.Ты, Мария, – гибнущим подмога.Надо смерть предупредить, уснуть.Я стою у твердого порога.Уходи. Уйди. Еще побудь.Воронежские тетради
(1935–1937)
Первая тетрадь
«Я живу на важных огородах…»
Я живу на важных огородах.Ванька-ключник мог бы здесь гулять.Ветер служит даром на заводах,И далёко убегает гать.Чернопахотная ночь степных закраинВ мелкобисерных иззябла огоньках.За стеной обиженный хозяинХодит-бродит в русских сапогах.И богато искривилась половица —Этой палубы гробовая доска.У чужих людей мне плохо спится —Только смерть да лавочка близка.«Наушнички, наушники мои…»
Наушнички, наушники мои!Попомню я воронежские ночки:Недопитого голоса# АиИ в полночь с Красной площади гудочки…Ну как метро?.. Молчи, в себе таи…Не спрашивай, как набухают почки…И вы, часов кремлевские бои, —Язык пространства, сжатого до точки…«Пусти меня, отдай меня, Воронеж…»
Пусти меня, отдай меня, Воронеж:Уронишь ты меня иль проворонишь,Ты выронишь меня или вернешь,Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож…«Я должен жить, хотя я дважды умер…»
Я должен жить, хотя я дважды умер,А город от воды ополоумел:Как он хорош, как весел, как скуласт,Как на лемех приятен жирный пласт,Как степь лежит в апрельском провороте,А небо, небо – твой Буонаротти…«Это какая улица…»
Это какая улица?Улица Мандельштама.Что за фамилия чертова!Как ее ни вывертывай,Криво звучит, а не прямо.Мало в нем было линейного,Нрава он не был лилейного,И потому эта улицаИли, верней, эта ямаТак и зовется по имениЭтого Мандельштама.Чернозем
Переуважена, перечерна, вся в холе,Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —Комочки влажные моей земли и воли…В дни ранней пахоты черна до синевы,И безоружная в ней зиждется работа —Тысячехолмие распаханной молвы:Знать, безокружное в окружности есть что-то.И все-таки земля – проруха и обух.Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, —Гниющей флейтою настраживает слух,Кларнетом утренним зазябливает ухо…Как на лемех приятен жирный пласт,Как степь лежит в апрельском провороте!Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст…Черноречивое молчание в работе.«Лишив меня морей, разбега и разлета…»
Лишив меня морей, разбега и разлетаИ дав стопе упор насильственной земли,Чего добились вы? Блестящего расчета —Губ шевелящихся отнять вы не могли.«Да, я лежу в земле, губами шевеля…»
Да, я лежу в земле, губами шевеля,Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:На Красной площади всего круглей земля,И скат ее твердеет добровольный,На Красной площади земля всего круглей,И скат ее нечаянно-раздольный,Откидываясь вниз – до рисовых полей,Покуда на земле последний жив невольник.«Как на Каме-реке глазу темно, когда…»
IКак на Каме-реке глазу темно, когдаНа дубовых коленях стоят города.В паутину рядясь, борода к бороде,Жгучий ельник бежит, молодея в воде.Упиралась вода в сто четыре весла —Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.Там я плыл по реке с занавеской в окне,С занавеской в окне, с головою в огне.А со мною жена – пять ночей не спала,Пять ночей не спала, трех конвойных везла.IIЯ смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.Полноводная Кама неслась на буек.И хотелось бы гору с костром отслоить,Да едва успеваешь леса посолить.И хотелось бы тут же вселиться, пойми,В долговечный Урал, населенный людьми,И хотелось бы эту безумную гладьВ долгополой шинели беречь, охранять.Стансы
1Я не хочу средь юношей тепличныхРазменивать последний грош души,Но, как в колхоз идет единоличник,Я в мир вхожу – и люди хороши.Люблю шинель красноармейской складки —Длину до пят, рукав простой и гладкий,И волжской туче родственный покрой,Чтоб, на спине и на груди лопатясь,Она лежала, на запас не тратясь,И скатывалась летнею порой.2Проклятый шов, нелепая затея,Нас разделили. А теперь – пойми:Я должен жить, дыша и большевея,И, перед смертью хорошея,Еще побыть и поиграть с людьми!3Подумаешь, как в Чердыни-голубе,Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,В семивершковой я метался кутерьме:Клевещущих козлов не досмотрел я драки,Как петушок в прозрачной летней тьме, —Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки —Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок.И я в уме.4И ты, Москва, сестра моя, легка,Когда встречаешь в самолете братаДо первого трамвайного звонка:Нежнее моря, путаней салатаИз дерева, стекла и молока…5Моя страна со мною говорила,Мирволила, журила, не прочла,Но возмужавшего меня, как очевидца,Заметила и вдруг, как чечевица,Адмиралтейским лучиком зажгла…6Я должен жить, дыша и большевея,Работать речь, не слушаясь, сам-друг.Я слышу в Арктике машин советских стук,Я помню всё: немецких братьев шеиИ что лиловым гребнем ЛорелеиСадовник и палач наполнил свой досуг.7И не ограблен я, и не надломлен,Но только что всего переогромлен…Как «Слово о полку» струна моя туга,И в голосе моем после удушьяЗвучит земля – последнее оружье,Сухая влажность черноземных га!«День стоял о пяти головах. Сплошные пять…»
День стоял о пяти головах. Сплошные пять сутокЯ, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, – слитен, чуток,А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в ножах —Глаз превращался в хвойное мясо.На вершок бы мне синего моря,на игольное только ушко,Чтобы двойка конвойного временипарусами неслась хорошо.Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?Чтобы Пушкина чудный товар не пошелпо рукам дармоедов,Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —Молодые любители белозубых стишков,На вершок бы мне синего моря,на игольное только ушко!Поезд шел на Урал. В раскрытые рты намГоворящий Чапаев с картины скакал звуковой —За бревенчатым тылом, на ленте простыннойУтонуть и вскочить на коня своего.«От сырой простыни говорящая…»
От сырой простыни говорящая —Знать, нашелся на рыб звукопас —Надвигалась картина звучащаяНа меня, и на всех, и на вас…Начихав на кривые убыточки,С папироской смертельной в зубах,Офицеры последнейшей выточки —На равнины зияющий пах…Было слышно жужжание низкоеСамолетов, сгоревших дотла,Лошадиная бритва английскаяАдмиральские щеки скребла…Измеряй меня, край, перекраивай —Чуден жар прикрепленной земли!Захлебнулась винтовка Чапаева —Помоги, развяжи, раздели!..«Еще мы жизнью полны в высшей мере…»
Еще мы жизнью полны в высшей мере,Еще гуляют в городах СоюзаИз мотыльковых лапчатых материйКитайчатые платьица и блузы.Еще машинка номер первый едкоКаштановые собирает взятки,И падают на чистую салфеткуРазумные густеющие прядки.Еще стрижей довольно и касаток,Еще комета нас не очумила,И пишут звездоносно и хвостатоТолковые лиловые чернила.«Римских ночей полновесные слитки…»
Римских ночей полновесные слитки,Юношу Гете манившее лоно —Пусть я в ответе, но не в убытке:Есть многодонная жизнь вне закона.«Возможна ли женщине мертвой хвала…»
Возможна ли женщине мертвой хвала?Она в отчужденьи и в силе —Ее чужелюбая власть привелаК насильственной жаркой могиле…И твердые ласточки круглых бровейИз гроба ко мне прилетелиСказать, что они отлежались в своейХолодной стокгольмской постели.И прадеда скрипкой гордился твой род,От шейки ее хорошея,И ты раскрывала свой аленький рот,Смеясь, итальянясь, русея…Я тяжкую память твою берегу,Дичок, медвежонок, Миньона,Но мельниц колеса зимуют в снегу,И стынет рожок почтальона.