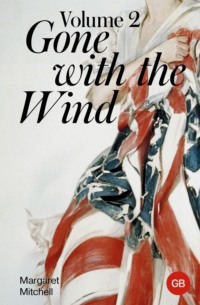Полная версия
Унесенные ветром. Том 2
– Только дайте время! – закричал Рене. – Я стану принцем пирогов всего Юга! Наш добрый Хью станет королем растопки, а ты, Томми, будешь погонять ирландских рабов вместо черномазых. Какая перемена… как забавно! А что же станется с вами, мисс Скарлетт? А с мисс Мелли? Вы уже умеете доить коров и собирать хлопок?
– О боже, нет, конечно! – холодно ответила Скарлетт, никак не разделявшая восторгов Рене по поводу тяжелого ручного труда. – У нас этим занимаются негры.
– Я слыхал, мисс Мелли назвала своего малыша Борегаром?[4] Скажите, что я, Рене, вполне одобряю ее выбор. Нет на свете более прекрасного имени… разве что Иисус.
Он говорил шутя, но по глазам было видно, как он гордится отчаянным смельчаком, героем Луизианы[5].
– Есть еще одно прекрасное имя: Роберт Эдвард Ли, – заметил Томми. – Я ни в коем случае не пытаюсь уменьшить заслуги старины Бо, но своего первенца назову Боб Ли Уэллберн.
Рене посмеялся и только пожал плечами.
– Расскажу вам один анекдот. Вернее, это история из жизни. Вы увидите, что на самом деле думают креолы о нашем славном Борегаре и о вашем генерале Ли. В поезде близ Нового Орлеана едет человек из Виргинии, солдат генерала Ли, и встречает там креола из отряда Борегара. Человек из Виргинии все говорит, говорит, говорит, как генерал Ли сделал то, генерал Ли сделал это. Креол долго морщил лоб, стараясь вспомнить, о ком идет речь. Потом засмеялся и сказал: «Генерал Ли! Ах да! Теперь я вспомнил! Ну конечно! Генерал Ли! Это о нем так хорошо отзывается генерал Борегар!»
Скарлетт из вежливости посмеялась вместе со всеми, хотя, по ее мнению, вся эта история свидетельствовала лишь о том, что креолы любят задирать нос не меньше, чем жители Чарльстона и Саванны. И вообще она считала, что сына Эшли надо было назвать в честь отца.
Настроив инструменты, музыканты заиграли «Старина Дэн Такер», и Томми повернулся к ней:
– Скарлетт, вы танцуете? Я не могу оказать вам такой услуги, но вот Хью или Рене…
– Нет, благодарю вас. Я все еще ношу траур по моей матушке, – торопливо ответила она. – Пожалуй, просто посижу.
Она поискала взглядом Фрэнка Кеннеди и нашла его рядом с миссис Элсинг. Скарлетт сделала ему знак подойти.
– Я посижу вон в той нише. Может, принесете мне что-нибудь перекусить? Мы могли бы немного поболтать, – сказала она Фрэнку, когда остальные трое мужчин отошли.
Пока он бегал за бокалом вина и тонким, как лист бумаги, кусочком кекса, Скарлетт устроилась в нише в дальнем конце гостиной и тщательно расправила складки платья, так чтобы самых худших пятен не было видно. Унизительные события этого утра, проведенного с Реттом, были вытеснены радостным волнением от встречи с множеством старых знакомых и звуками музыки. О поведении Ретта и своем позоре она подумает завтра. Завтра ей вновь предстоит терзаться бессильным гневом. Завтра она опять спросит себя, удалось ли ей произвести впечатление на уязвленное сердце Фрэнка. Но не сейчас. В этот вечер в ней до кончиков пальцев кипела жизнь, все ее чувства были обострены надеждой, глаза искрились.
Выглядывая из алькова в громадную гостиную, Скарлетт наблюдала за танцующими парами и вспоминала, какой красивой была эта комната, когда во время войны она впервые приехала в Атланту. Тогда начищенные деревянные полы сверкали зеркальным блеском, а свисавший с потолка канделябр сотнями хрустальных подвесков ловил, преломлял, отражал и разбрасывал по всей комнате огоньки десятков горевших на нем свечек, переливавшихся и мерцавших, подобно бриллиантам и сапфирам. Старинные портреты на стенах были полны величия и взирали на гостей с милостивой приветливостью. Мягкие диваны розового дерева так и манили присесть, а самый большой из них занимал почетное место в той самой нише, где сейчас сидела Скарлетт. На всех званых вечерах это было ее самое любимое место. Отсюда открывался прекрасный вид на гостиную и дальше на столовую, где стоял овальный обеденный стол красного дерева на двадцать персон, а у стены чинно выстроились двадцать тонконогих стульев и массивный буфет, заставленный серебряными приборами, подсвечниками на семь свечей, бокалами, соусниками, графинами и маленькими сверкающими рюмочками. В первые годы войны Скарлетт часто сиживала на этом диване всегда в компании какого-нибудь офицера приятной наружности, слушала скрипку и контрабас, аккордеон и банджо и наслаждалась ритмичным шарканьем танцующих ног по натертому воском и отполированному полу.
Теперь же в канделябре не было ни одной свечи. Он весь покосился, большинство подвесок было разбито, словно захватчики-янки задались целью истоптать их своими сапогами. Гостиную освещали лишь масляная лампа да несколько свечей, но главным источником света служило пламя, ревущее в широком камине. В дрожащих отблесках огня становилось особенно заметно, насколько непоправимо изрубцован и расколот старый паркет. На выцветших обоях отчетливо виднелись прямоугольные следы от висевших здесь раньше портретов, а широкие трещины в штукатурке напоминали о том, как снаряд, упавший на крышу во время осады города, разворотил весь второй этаж. Тяжелый старинный стол красного дерева, уставленный графинами с вином и сладостями, хоть и обшарпанный, со следами неумелого ремонта на поломанных ножках, все еще царил в опустевшей столовой, но буфет, серебро и тонконогие стулья исчезли. Не было больше и потускневших парчовых штор, когда-то закрывавших арочные, застекленные до самого пола балконные двери в противоположном конце гостиной, остались лишь явно стираные и штопаные кружевные занавески.
На месте так полюбившегося ей дивана с изогнутой спинкой стояла куда менее удобная жесткая лавка. Скарлетт с болью в сердце опустилась на эту лавку, горько сожалея о том, что отсыревшие, покрытые пятнами юбки не дают ей возможности принять приглашение на танец. Как было бы чудесно снова потанцевать! Но разумеется, в уединении ниши она сможет вернее вскружить голову Фрэнку, чем в вихре танца. Здесь она сможет завороженно внимать его рассказам и поощрять на все новые глупости.
И все же музыка звучала так призывно… Скарлетт машинально отбивала туфелькой ритм вместе со старым Леви, который, притопывая ногой, наигрывал мелодию на дребезжащем банджо и громко объявлял фигуры кадрили. Ноги танцующих шаркали и постукивали по полу, две шеренги то сходились, то расходились, кавалеры кружили дам, поднимая руки дугой.
Старый Дэн Такер напился вдрызг!(Покружите ваших дам!)Свалился в камин, поднял кучу брызг!(Легче скользите, дамы!)Как приятно вновь слышать звуки музыки и стук каблуков танцующих после скучных и изнурительно долгих месяцев в Таре; как чудесно снова видеть знакомые лица, смеющиеся в тусклом свете свечей, слушать старые шутки, добродушные поддразнивания, насмешки и кокетливый смех! Это было похоже на воскрешение из мертвых. Можно было почти поверить, что все вернулось на пять лет назад, в те веселые времена. Если бы она могла закрыть глаза и не видеть заношенных и перешитых платьев, залатанных сапог и штопаных туфель, если бы в память не врывались лица молодых людей, не вернувшихся с войны, можно было бы подумать, что ничего не изменилось. Но пока она глядела на стариков, толпившихся в столовой у графина с вином, на сидящих у стен матрон, ведущих беседу под прикрытием голых рук без вееров, на кружащихся в танце молодых людей, ей вдруг пришла в голову холодная страшная мысль: все так сильно изменилось, что эти фигуры вполне можно счесть всего лишь призраками.
Да, они выглядят как прежде, но они стали совсем другими. В чем же дело? Может, они все просто стали на пять лет старше? Нет, дело не только в истекшем времени. Что-то пропало в них самих, исчезло из их мира. Пять лет назад чувство безопасности укрывало их так надежно и так незаметно, что они расцветали под его сенью, не задумывались ни о чем. Теперь оно исчезло, а вместе с ним и былое очарование, былое ощущение чего-то пленительного и волнующего, поджидавшего прямо за углом, исчезло прежнее волшебство бытия.
Скарлетт знала, что и сама изменилась, но не так, как они, и это озадачило ее. Она сидела и наблюдала за ними, чувствуя себя чужой и одинокой, гостьей из другого мира, говорящей на незнакомом им языке и не понимающей их языка. Тут ее осенило: это чувство сродни тому, что она испытывала, находясь рядом с Эшли. Рядом с ним и подобными ему – а мир вокруг был полон ими – она чувствовала себя исключенной из круга чего-то непостижимого.
Лица мало изменились, манеры не изменились совсем, – вот, кажется, и все, что осталось от прежних друзей. Неподвластное времени достоинство, неизменная обходительность и галантность были и останутся навсегда их неотъемлемыми чертами, их сутью, но до самой могилы в них будет жить неугасающая горечь, слишком глубокая, не поддающаяся описанию. Это были учтивые, усталые, озлобленные люди, пережившие поражение, но так и не познавшие его, сломленные, но с гордо распрямленными плечами. Разбитые и беззащитные жители завоеванных территорий, они смотрели на свой любимый край, растоптанный врагом, и видели, как проходимцы глумятся над законами, как бывшие рабы превращаются в живую угрозу, как мужчины лишаются гражданских прав, а женщины подвергаются оскорблениям. И они ни на минуту не забывали о павших.
Все в их старом мире изменилось, лишь его формы остались прежними. Все понимали, что старые традиции нужно сохранять, ибо больше от прежней жизни ничего не осталось. Все крепко держались за хорошо известные и любимые старые обычаи: за церемонную учтивость, обходительность, очаровательную непосредственность человеческого общения и прежде всего за традиционную роль мужчины, защищающего женщин. Верные традициям, в которых они были воспитаны, учтивые и чуткие мужчины почти преуспели в своей попытке создать атмосферу защищенности и уберечь своих женщин от тревог и невзгод. По мнению Скарлетт, это был верх нелепости: ведь за последние пять лет даже женщины, ведущие чуть ли не монашеский образ жизни, и те уже повидали почти все. Они выхаживали раненых, закрывали глаза умерших, пережили войну, пожар и разорение, познали страх, бегство и голод.
Но чего бы ни повидали их глаза, какой бы грязной работой им ни приходилось и еще придется заниматься, они остались прежними леди и джентльменами, особами королевской крови в изгнании. Они познали горечь, отчуждение и безразличие, но сохранили прежнюю доброжелательность друг к другу, остались твердыми, как алмаз, столь же яркими и хрупкими, как хрусталь из разбитого канделябра, висевшего у них над головой. Старые времена прошли, но эти люди упорно продолжали жить, как и раньше: обворожительно неторопливые, твердо вознамерившиеся избегать суеты и спешки, не поддаваться – в отличие от янки – неприличной погоне за деньгами, не расставаться со своими старыми обычаями.
Скарлетт знала, что сама она тоже сильно изменилась. Иначе она не совершила бы всего того, что уже успела совершить после бегства из Атланты, а сейчас даже не помышляла бы о том, чего так отчаянно хотела добиться. Но между ее решимостью и стойкостью всех этих людей была некая разница, хотя Скарлетт пока никак не могла понять, в чем она состоит. Возможно, разница заключалась в том, что Скарлетт была готова на все, а окружавшие ее люди скорее предпочли бы умереть, чем поступиться существующими нормами поведения. А может быть, все дело было в том, что, не имея в сердцах надежды, эти люди по-прежнему могли смотреть на жизнь с улыбкой и с вежливым поклоном пропускать ее мимо. Скарлетт так не могла.
Она не могла сделать вид, что реальной жизни не существует. Она намеревалась выжить в жесточайших условиях, настолько враждебных, что она и не пыталась приукрасить их или встретить с улыбкой. Скарлетт не замечала ни мужества, ни любезности, ни несгибаемой гордости своих друзей. Она видела лишь глупое упрямство, с которым они наблюдали за событиями, но отказывались посмотреть правде в глаза, предпочитая иронически улыбаться.
Глядя на разрумянившиеся лица танцующих, она спрашивала себя, что же движет ими, схоже ли это с тем, что движет ею самой: мысли о погибших поклонниках, изувеченных мужьях, голодных детях, потерянных имениях, о любимых домах, под крышами которых теперь разместились чужаки. Ну конечно же, что-то должно двигать ими! Об обстоятельствах их жизни она знала почти так же хорошо, как и о своей собственной. Их потери были и ее потерями. Их нужда была ее нуждой, им приходилось сталкиваться с теми же трудностями, что и ей. Но они вели себя совершенно иначе! Лица в комнате – не лица, а маски! Великолепные маски, которые они не снимут никогда.
Но если в этих жестоких обстоятельствах они страдают не меньше, чем она, – а так оно и есть, – то как, как им удается сохранить беспечный вид? И зачем вообще прилагать для этого усилия? Все это было выше ее понимания и смутно раздражало: она не могла вести себя как они, не могла оглядывать руины старого мира с вежливой невозмутимостью. Она напоминала загнанного зверя, из последних сил стремящегося укрыться в норе от своры гончих, хотя сердце уже разрывается от бега.
Внезапно она ощутила жгучую ненависть ко всем этим людям за то, что они так не похожи на нее, за то, что они выносят потери с непостижимой невозмутимостью, которой ей никогда не достичь, да она бы и стараться не стала. Она возненавидела этих улыбающихся, порхающих по залу незнакомцев, этих заносчивых глупцов, находивших предмет для гордости в том, что утрачено навсегда, и вроде бы даже гордившихся своими утратами. Женщины держались как настоящие леди, и Скарлетт знала, что они леди, хотя целыми днями они трудились, выполняя грязную работу и не ведая, где взять новое платье. Все они леди! Но себя она таковой не чувствовала даже в этом бархатном платье, с надушенными волосами, даже несмотря на свое благородное происхождение и былое богатство. Она своими руками обрабатывала красную землю Тары, тяжкий труд лишил ее внешнего налета аристократичности, и Скарлетт знала, что снова почувствует себя леди, лишь когда на столе вновь появятся серебро и хрусталь, дымящиеся сытные блюда, когда в конюшне будут стоять собственные лошади, а во дворе – экипаж, когда черные руки, а не белые будут собирать хлопок в Таре.
«Вот оно! – сердито подумала она, глубоко вздыхая. – Вот в чем вся разница! Даже в бедности они считают себя леди, а я нет. Похоже, эти тупоголовые идиотки не понимают, что невозможно быть леди без денег!»
Но даже несмотря на эту вспышку озарения, Скарлетт смутно понимала, что, как бы глупо ни выглядели все эти люди, они ведут себя правильно. Так считала бы Эллин. Это беспокоило Скарлетт. Она знала, что ей тоже следует думать и поступать, как они, но это было не в ее силах. Ей следовало искренне верить, что прирожденная леди остается таковой даже в бедности, но она не верила и не могла заставить себя поверить.
Всю свою жизнь она слышала насмешки в адрес янки, потому что все их претензии на аристократичность основывались лишь на богатстве, а не на родовитости. Но теперь, какой бы ересью это ни показалось, она думала, что в этом янки правы, пусть даже они не правы во всем остальном. Чтобы быть леди, нужны деньги. Скарлетт знала, что от таких ее рассуждений Эллин упала бы в обморок. Никакая бедность не заставила бы Эллин стыдиться. Стыд! Вот что чувствовала Скарлетт. Стыд за свою бедность, за необходимость прибегать к унизительным уловкам, жить в нужде и выполнять работу негров.
Она раздраженно повела плечами. Пусть все они правы, а она нет – все равно! Пусть эти дураки живут прошлым, она будет действовать, напрягая каждый нерв и поставив на кон свою честь и доброе имя, но вернет все, что потеряла. Большинство из них считали ниже своего достоинства опускаться до погони за деньгами. Времена настали суровые и жестокие. Тот, кто хочет чего-то добиться, должен сам стать таким же суровым и жестоким. Скарлетт знала, что семейные традиции удерживают этих людей от вступления в борьбу, главной целью которой является добыча денег. Они все полагают, что зарабатывать деньги открыто и даже просто говорить о деньгах – это в высшей степени вульгарно. Ну конечно, и из этого правила есть исключения. К примеру, миссис Мерриуэзер с ее выпечкой и Рене, развозящий эту выпечку на фургоне. Хью Элсинг рубит лес и торгует дровами, а Томми строит гостиницу. А у Фрэнка хватило здравого смысла открыть магазин. А как же все остальные? Плантаторы будут выжимать все возможное из своего кусочка земли и жить в бедности. Адвокаты и врачи, вернувшись к своей профессии, станут ждать клиентов, которые, возможно, так и не появятся. А что же делать тем, кто вел праздную жизнь на свои доходы? Что будет с ними?
Но она не намерена всю жизнь прозябать в бедности. Ни за что на свете она не станет сидеть сложа руки в ожидании чуда. Она ворвется в эту жизнь и возьмет от нее все, что только сможет. Ее отец начинал бедным иммигрантом, а стал владельцем обширных земель Тары. Уж если отец смог, то его дочь и подавно сможет. Она ни за что не уподобится тем, кто сделал ставку на Правое Дело, все потерял да еще и гордится этим, потому что Правое Дело якобы стоит любой жертвы. Эти люди черпают силы в прошлом. Ей же придает силы только будущее. В настоящий момент ее будущее – Фрэнк Кеннеди. По крайней мере у него есть магазин и наличные. Если бы только ей удалось выйти за него замуж и добраться до денег, она смогла бы сохранить Тару еще на год. А с того, что останется… пусть Фрэнк покупает лесопилку. Она своими глазами убедилась, как быстро отстраивается город, и любой, кто в условиях такой слабой конкуренции займется продажей строительного леса, сможет сколотить себе состояние.
Из глубины памяти вдруг всплыли слова Ретта, сказанные еще в самом начале войны, – по поводу денег, которые он заработал на блокаде. Тогда Скарлетт не сделала даже попытки понять их, но теперь они обрели ясность, и она с удивлением подумала, что, видимо, молодость или глупость помешали ей оценить их по достоинству.
«Деньги можно заработать и на крушении цивилизации, и на создании новой».
«Вот оно – крушение, о котором он говорил, – подумала Скарлетт, – и он был прав. Любой, кто не боится работать или… или взять, что плохо лежит, может нажить кучу денег».
Она заметила Фрэнка, пробиравшегося к ней через залу с бокалом ежевичной наливки в одной руке и ломтиком кекса на блюдечке в другой, и тут же натянула улыбку. Ей и в голову не приходило задуматься: а стоит ли Тара брака с Фрэнком? Она не сомневалась, что стоит, и решила больше об этом не думать.
Сделав глоток, Скарлетт обворожительно улыбнулась ему, зная, что ее румяные щеки выглядят намного привлекательнее, чем у любой из танцующих дам. Она подобрала юбки, чтобы он смог сесть, и принялась как бы невзначай обмахиваться платочком, щекоча ему нос нежным запахом одеколона. Она гордилась одеколоном: ни одна из дам, кроме нее, им не пользовалась, и Фрэнк заметил это. На него накатил приступ храбрости, и он осмелился шепнуть ей, что она прекрасна и благоуханна, как роза.
Ах, если бы он не был так робок! Он напоминал Скарлетт тихого старого полевого кролика. Вот бы ему призанять немного галантности и пылкости братьев Тарлтонов или хотя бы грубой дерзости Ретта Батлера! Нет, обладай он такими качествами, ему хватило бы ума разглядеть отчаяние за ее кокетливо потупленными ресницами. Но он мало смыслил в женщинах и даже не заподозрил, что она что-то замышляет. Ей это было на руку, но уважения к нему у нее не прибавилось.
Глава 36
Всего через две недели после молниеносного ухаживания, которое, зардевшись признавалась Скарлетт, настолько покорило ее, что у нее не осталось сил противиться его напору, она вышла замуж за Фрэнка Кеннеди.
Он и понятия не имел, что все эти две недели она ночей не спала, ходила, стиснув зубы, по комнате, злилась на его тупоголовость, неспособность понимать ее намеки, молилась, чтобы он, не дай бог, не получил письма от Сьюлин, которое погубило бы весь ее план. К счастью, Сьюлин всегда была прескверной корреспонденткой: она обожала получать письма, но отвечала на них с большой неохотой, и за это Скарлетт благодарила Бога. Но всегда есть шанс, мерно шагая туда-сюда по холодному полу спальни и кутаясь поверх ночной рубашки в старенькую шаль Эллин, думала Скарлетт. Фрэнк ничего не знал о лаконичном письме Уилла, в котором говорилось, что Джонас Уилкерсон снова навестил Тару и, узнав, что Скарлетт уехала в Атланту, разбушевался так, что Уиллу и Эшли пришлось насильно вышвырнуть его с территории поместья. Письмо Уилла напомнило ей об очевидном: времени остается все меньше и меньше, очень скоро придется платить дополнительный налог. Безысходное отчаяние охватывало ее по мере того, как дни утекали один за другим. О, если бы она могла схватить эти песочные часы и остановить неумолимый бег песчинок!
Но она так искусно скрывала свои истинные чувства, так великолепно играла роль, что Фрэнк ничего не заподозрил, он увидел лишь то, что лежало на поверхности: хорошенькую беспомощную молодую вдову Чарльза Гамильтона, которая каждый вечер встречала его в гостиной мисс Питтипэт и с нескрываемым восхищением слушала его рассказы о лавке, о том, сколько денег он заработает и когда сможет купить лесопилку. После мнимого коварного предательства Сьюлин нежное сочувствие и горящие интересом глаза Скарлетт, жадно ловящей каждое его слово, были просто бальзамом на его раны. Поведение Сьюлин нанесло болезненный удар сердцу Фрэнка, его самолюбие – пугливое, чувствительное самолюбие холостяка средних лет, прекрасно сознающего свою непривлекательность для женщин, – было глубоко уязвлено. Он не мог написать Сьюлин и упрекнуть ее за вероломство; одна мысль об этом повергала его в ужас. Но он мог облегчить душу, говоря о ней со Скарлетт. Ни словом не осуждая Сьюлин, – все-таки речь шла о ее родной сестре! – Скарлетт выразила ему свое сочувствие, заверила его, что понимает, как плохо поступила с ним ее сестра, а главное, дала понять, что он, безусловно, заслуживает хорошего отношения со стороны женщины, способной оценить его по достоинству.
Миссис Гамильтон была прехорошенькой и розовощекой малюткой, она то грустно вздыхала, обдумывая свое печальное положение, то рассыпалась веселым смехом, напоминавшим перезвон маленьких серебряных колокольчиков, когда он своими шутками пытался ее приободрить. Зеленое платье, безупречно вычищенное Мамушкой, подчеркивало красоту ее стройной фигурки с осиной талией, а какой пленительный аромат исходил от ее платочка и волос! Просто возмутительно, как такая изящная и благородная женщина остается одинокой и беззащитной в жестоком мире, суровость которого она даже не в состоянии постичь. И нет ни мужа, ни брата, ни даже отца, который мог бы защитить ее. Фрэнк полагал, что мир – слишком грубое место для одинокой женщины, и в этом Скарлетт молчаливо и искренне с ним соглашалась.
Он стал заглядывать на огонек каждый вечер, находя атмосферу в доме Питти приятной и успокоительной. Мамушка, встречавшая его у дверей, одаривала Фрэнка лучшей своей улыбкой, приберегаемой для самых достойных, Питти подавала кофе с коньяком и суетилась вокруг него, а Скарлетт трепетно внимала ему, не пропуская ни единого слова. Иногда после обеда, отправляясь в двуколке по делам, он брал Скарлетт с собой. Эти поездки были очень веселыми, потому что Скарлетт задавала так много глупых вопросов. «Настоящая женщина», – одобрительно думал Фрэнк. Его смешило ее неведение в решении деловых проблем, а она хохотала, приговаривая: «Чего еще можно ожидать от такой дурочки, как я? Вы ведь не думали, что я умею разбираться в мужских делах?»
Впервые за все годы, что он прожил бобылем, она помогла ему почувствовать себя сильным и крепким мужчиной, вылепленным богом из более благородной глины, чем прочая мужская братия, чтобы защищать наивных и беззащитных женщин.
Уже у алтаря, чувствуя ее маленькую доверчивую ручку в своей руке, глядя на эти удивительные густые ресницы, черными полумесяцами лежащие на окрашенных нежным румянцем щеках, он все еще не мог понять, как все это произошло. Он знал лишь одно: впервые в жизни ему удалось совершить нечто волнующее и романтическое. Он, Фрэнк Кеннеди, вскружил голову этому обворожительному созданию, и вот уже она в его сильных руках. Это ощущение просто опьяняло его.
Родственников на свадьбе не было. Свидетелями выступили чужие люди с улицы. На этом настояла Скарлетт, и Фрэнк сдался, пусть и неохотно: ему хотелось видеть на своей свадьбе сестру и ее мужа из Джонсборо, а прием с веселыми тостами за молодых в гостиной тетушки Питти в компании друзей очень порадовал бы его. Но Скарлетт и слушать не хотела даже о присутствии мисс Питти.
– Только вы и я, Фрэнк, – умоляла она, сжимая его руку. – Как беглецы. Я всегда так мечтала сбежать, чтобы выйти замуж! Прошу вас, сердце мое, сделайте это ради меня!
Именно это подкупающее, новое и непривычное для него обращение и слезинки, алмазами сверкающие в уголках ее умоляющих светло-зеленых глаз, сразили его. В конце концов, мужчине следует уступать невесте, особенно если речь идет о свадьбе, ведь женщины придают такое значение всякому сентиментальному вздору.