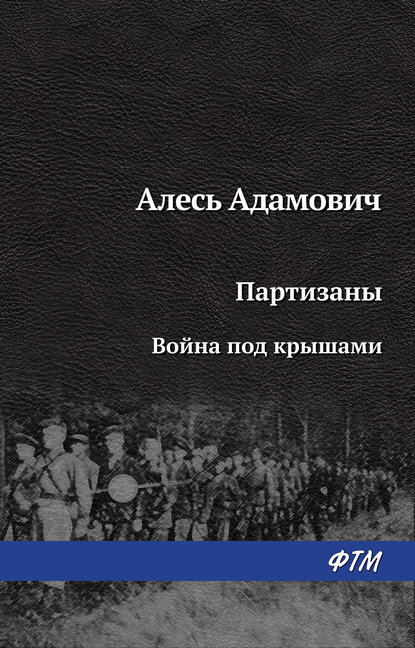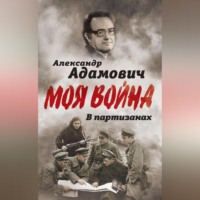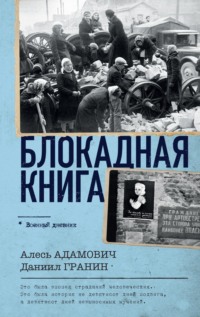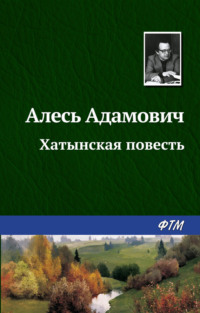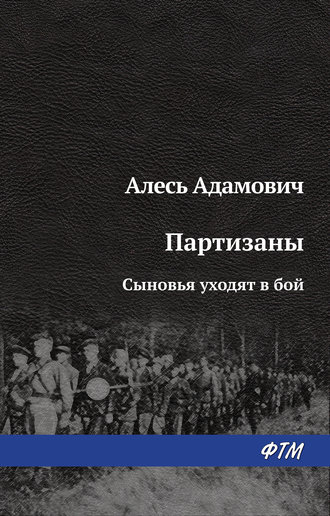
Полная версия
Сыновья уходят в бой
Нескольких определили в третий взвод. Самый пожилой, Коломиец, как сел на землю возле землянки, так и не сдвинулся весь день. На том месте и пообедал (товарищ принес котелок), там и приоделся немного. Когда примерял полотняную, плохо покрашенную, но все же рубаху, лицо его засветилось первой улыбкой.
Товарищ Коломийца – низенький, седой. Можно догадываться, что он вовсе и не старый еще, что был когда-то очень живой, подвижный. От неуходящей, виновато-радостной улыбки кожа на висках все время собрана в лучики.
Кроме Коломийца и его белоголового товарища Шаповалова в третий взвод зачислен еще один. Фамилия – Бакенщиков. Этого не сразу и заметили. Все новички уже освоились, все в обновах, не очень роскошных, но все же. А очкастый сидит в сторонке, ворох лыка у ног, колени острые, высокие, как у кузнечика. Сидит человек с узким, высоколобым лицом профессора и отрешенно плетет лапти. Смелости только и хватило лыка расстараться, попросить. Но не заметно в нем той обязательной тихой виноватости, с которой приходят в лагерь из немецкого плена.
Мама принесла ему Алексеево белье. Хорошее, почти новое. Человек поднял черные, странно горящие за очками глаза. Глаза эти как бы отдельно живут на одеревенело-спокойном лице. И поблагодарил он странно:
– Спасибо, женщина.
Толя рад за возвращающихся к жизни людей. Возле них и ему хорошо. К нему новички обращаются охотнее, смелее, чем к другим. И даже на «вы». Белоголовый, лучащийся счастьем Шаповалов вполголоса расспрашивает его, как тут «оружием разживаются».
С оружием, понятное дело, трудно. Добывают кто как сумеет. Целую неделю лазали по большому пожарищу (немцы с самолетов лес жгли). Двоим повезло – винтовки нашли. Чуть-чуть приклады почернели, подрумянились, а так – хорошие винтовки. Толе вот подсумки попались. Ходят легенды про целые машины оружия, которые в сорок первом наши зарыли в землю. Но клад никому пока не дается. Вооружаются и так, а больше, понятно, в бою.
– Конечно, конечно, – поспешно соглашается Шаповалов.
Толя не говорит, что ему и самому нужна винтовка. Все бы хорошо, но Толя знает, что через недельку-другую этот новичок станет настоящим партизаном. И увидит, какой тут партизан Толя. Тошно будет вспоминать, как уважительно смотрел на тебя этот седой человек, как авторитетно вводил ты его в партизанскую жизнь. И это пришло даже раньше, чем Толя предполагал.
Вашкевич, вернувшись из штаба, приказал дозарядить диски к ручным пулеметам.
– Бог подаст, – сердито отмахивается Носков от Головчени, который, сняв шапку, собирает патроны. Но Головченя знает, что он – не просто он, он – пулемет, главная фигура боя. И улыбается уверенно: «Хошь не хошь, а дашь». Весело ему чувствовать себя молодым бородатым нахлебником-цыганом.
– Позолоти ручку, молодец.
Толя тоже отдал обойму. Не жалко, а неловко. Будто откупается. Сегодня он опять остается в лагере. И главное – не очень огорчен этим. Вдруг начинает казаться, что именно на этот раз могло бы случиться непоправимое. Сидел, не ходил, столько терял, а тут сразу и подсунешься. Что-то особенное намечается, даже тачанку со станкачом берут. И лица у всех какие то непривычно серьезные.
Молчаливый, вечно дымящий цигаркой парень (кажется, Пархимчик – фамилия его) потянулся к гармошке. Но раздумал:
– Придем, тогда…
А Толя вдруг подумал, что за все время он и словом не обменялся с этим парнем. А ведь Пархимчик – партизан. Как восторженно смотрел бы Толя в неулыбчивое круглое лицо, как рад был бы рисковать по первому слову этого парня, если бы встретил его где-либо возле своей Селибы месяца два назад. Толе вдруг захотелось заговорить с ним. Но парень уже стал в строй.
Выстроились возле землянки, и сразу видно, кто остается. Толя уловил на себе удивленный, как ему показалось, взгляд новичка Шаповалова. На плече у Шаповалова сумка с пулеметными дисками. Рядом с его белой головой борода Головчени особенно отливает смолью. Любят пулеметчики всякий маскарад. Вон и Помолотень, который при станкаче, тоже молодой, а усы отпустил. Светлые, пшеничные.
– Вымажь усы дегтем, – не раз советовал ему Носков, – а то лошадок вы с ездовым, как немцы пленных, кормите, не заметишь – сжуют усы-то.
Сегодня без усмешечек, ревниво-внимательно глядят партизаны на пулеметную тачанку. Ездовой Бобок все ходит возле своих не очень сытых лошадок, поглаживает их по крупу, будто от этого они справнее сделаются.
Мама в строю самая крайняя, на левом фланге. Она в своей плюшевой старенькой жакетке, под рукой – большущая санитарная сумка. Тень лежит на ее лице. Лицо Нади такое же отрешенно-серьезное, она тоже с сумкой, в мужском сером плаще. Косы уложены вокруг головы.
На другом фланге стоит, привычно опустив плечи, Алексей. Смотрит прямо перед собой.
Командир взвода прошел вдоль строя. Объявил: через десять минут общее построение. Куда пойдет отряд, не говорит. Да и знает ли сам? Никого не обижает, что это тайна. Наоборот, спокойнее. Больше уверенности, что язык не обгонит ноги.
Мама вышла из строя и сразу заулыбалась Толе. Надя смотрит издали. Ее малые, Инка и Галка, остались в гражданском лагере, и похоже, что Надя смотрит на Толю потому, что не может сейчас видеть своих.
Вполголоса мать объясняет, как быть ему, Толе. У Павловичихи два чемодана спрятаны. Там есть синие брюки. И белье. Пускай Толя сходит. С кем-нибудь, попросит кого-либо…
Мать объясняет очень подробно, и начинает казаться, что то, о чем она сейчас говорит, действительно самое главное. Или, может быть, улыбка ее – успокаивающе тихая – мешает понять до конца страшный смысл ее слов.
– В желтом чемодане подошвы… Хорошие, кожаные, еще папа доставал. Попросишь Берку, я с ним говорила, сделает тебе сапоги. А то твои совсем…
И Толя смотрит на свои сапоги, поспешно кивает головой.
Снова все, кроме Толи, стали в строй. Толю вдруг оглушила мысль, что мама действительно может не вернуться. И Алексей может не вернуться. Толя смотрит на них, они еще здесь, непоправимое еще не случилось. Но где-то там, впереди, на десять, на двенадцать часов впереди, все словно уже и произошло. Толя видит мать, она напоминающе улыбается ему («Так ты сходи, у Павловичихи…»), а где-то впереди это уже невозможно. Все возможно, кроме этого, самого простого: она смотрит на него, улыбается ему…
– Шагом арш! – скомандовал Вашкевич. Взвод не в ногу тронулся. И будто пустил кто-то неумолимые часы…
Отряд собирается на «круглой» поляне. Тут лица у людей совсем иные: много улыбок. Любой шутке не дают погаснуть, будто уголек с руки на руку перебрасывают.
Четыре взвода выстраиваются, образуя прямой угол. Перед взводом – командование отряда. Комиссар Петровский и начштаба Сырокваш чем-то очень похожи. Командир отряда Колесов рядом с ними выглядит и полноватым, и слишком, не по-военному, добродушным. Для Толи эти люди не просто командиры. Они еще и история отряда. От Сереги Коренного Толя многое узнал. Сергей тоже живая история отряда. Вон стоит рядом с Носковым, такой же, как Носков, щуплый, в немецком мундире, щурится напряженно, будто от постоянной головной боли. Лицо у Сергея веснушчатое, но совсем не так по-детски, как у веселого Васи-подрывника. Словно пепел, эти веснушки на нервном лице Сергея, от них оно еще темнее.
Он не очень разговорчив, этот Сергей. Но стоит кому вспомнить про сорок первый год, про начало сорок второго, и тут Коренного только слушай. Когда Коренной рассказывает, он весь горит. Самое главное, самое интересное было, оказывается, тогда, вначале: первые партизаны пытаются остановить идущие на Полесье танки, «забавная война» с симпатичными ребятами – словаками («они в одном конце деревни располагаются на ночевку, мы – в другом»), свирепые схватки с карателями, отчаянные хлопцы, погибшие в первых боях.
Сергей Коренной многое знает о людях, которые сейчас командуют отрядом, взводами. Многое, что случалось в отряде, он откровенно не одобряет. И его самого не все любят, потому-то он – партизан сорок первого года – все еще рядовой. Но попробуй отзовись неодобрительно о ком-нибудь, кого он недолюбливает и кто его тоже не жалует, если этот кто-нибудь – «старый» партизан. Вспыхнет, загорится:
– Кому еще походить да походить надо, а уже потом искать хуже себя.
Толина память жадно впитывала рассказы о том, как начиналось: о первых боях, о первых людях.
Когда смотришь на лицо комиссара Петровского – некрасиво суженное книзу, с высокими, будто подпухшими, скулами, когда видишь его узкие и твердые глаза, легко рисуешь себе тот бой, за который ему прислали из Москвы орден Красного Знамени. Вот такой неулыбчивый, высокий, остроплечий входил он в Зубаревку.
– Комиссар, немцы! – крикнул адъютант.
Петровский успел прыгнуть с мостика в канаву, адъютант не успел, упал замертво. А деревня вдруг ожила. Зеленые, черные мундиры – много, отвратительно много их, а против них – вот эти узкие, с серым блеском глаза. Автомат – на одиночные, прицельно – щелк, щелк. А тех много, им просто весело, что их так много. Они не очень и остерегаются, щелчков его и не слышат. Но прошел час, второй. Жители потом рассказывали, как запаниковали немцы, полицаи, когда вдруг обнаружили, что у них – восемь мертвых. А тут ночь скоро. Подобрали убитых, раненых и быстренько уехали. Петровский поднялся и даже прошелся по деревне из конца в конец.
Видишь эти глаза, эту острую, угловатую фигуру, резкие движения, взгляд в упор и хорошо представляешь, как опешили партизаны, бывшие окруженцы, которые сговаривались отделиться от отряда, уйти от Колесова, от «этого бухгалтеришки», когда вдруг к ним в землянку ворвался Петровский и, ни слова не говоря, отхлестал их по щекам.
Начальник штаба ростом чуть пониже Петровского. На нем такая же белая, в мелкое колечко кубанка, такая же отороченная мехом по бортам поддевка. И упругость в плечах, в коленях та же – военная. Но лицо с черным мазком усиков – округлее, мягче. Выпуклые глаза – горящие чернотой, изменчивые, вспыхивающие. Сырокваш тоже история отряда. Это он, живя в городе по фальшивым документам, связался с партизанами и вывел в лес большую группу окруженцев. С ним и Петровский пришел. Присоединилась эта группа кадровиков к «Чапаю». С неласковой иронией «Чапаем» называли в деревнях Пушкаря – командира небольшого отряда, одного из первых. В большой папахе, весь нарасхлест, с пьяным бешенством в очах, каруселил «Чапай» по деревням. Из первого же боя, в котором участвовали Сырокваш со своими хлопцами, Пушкарь сбежал. Потом появился – верхом на лютом жеребце – и давай ругать всех («Почему командира бросили?»).
Сырокваш оборвал его (легко представляешь, как черно вспыхнули эти выпуклые глаза):
– Какой ты командир! Ты нам не командир.
Пушкарь шумел, хватался за папаху, за бок (но не за пистолет), грозил каким-то высоким покровителем.
– А наш командир – вот!
И Сырокваш показал на человека, которого перед этим допрашивал, на Колесова, у которого был документ от райкома.
– Вот… его специально оставили.
Очень хотелось Сыроквашу побить козырь Пушкаря, который не уставал хвастать и пугать высоким покровителем. Покровитель – командир самого крупного в той местности отряда – явился через два дня с пышной свитой автоматчиков. С ним разговаривали уважительно, но тоже твердо. Забрал он Пушкаря и всех, кто хотел уйти с «Чапаем», и отбыл в свое Замошье.
Так неожиданно для всех и, пожалуй, для самого себя Колесов стал командиром.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Шалаш (бел.).