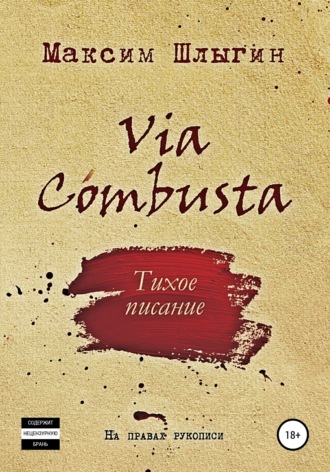 полная версия
полная версияVia Combusta
Глава 4.
Вечер понедельника. Начало мая.
Где-то года три назад.
Ресторан с панорамным видом на город.
Москва-сити.
Все эти дни после разговора с Хозяином роскошной плавучей крепости Алексей не мог найти себе места. Что-то необыкновенно глубокое травмировало его подсознание и никак не хотело униматься. Что-то очень важное было затронуто в нём на той последней встрече. Возможно, сам того не осознавая, Хозяин дёрнул одну из самых перетянутых и бережно опекаемых струн в потаённых уголках души Алексея. Струн, отвечающих за исходные страхи, которые не приобретены по ходу жизни – ни в детстве, ни в сознательном возрасте, а именно те реликтовые, с которыми человек уже родился.
Ведь только внешне сильные и успешные мужчины выглядят бесстрашными и неуязвимыми. А на деле, кого ни копни, выяснится, что карабкаться наверх к успеху, зарабатывая по дороге верных друзей и беспощадных терпеливых врагов, испытывая радость побед и боль ран, как на физическом, так и психологическом уровне, закаляясь и черствея по дороге, мужчину заставляет то самое чувство личной незащищённости и мальчишеской уязвимости, от которого просто так не отмахнуться.
Оно сидит так глубоко и так скрытно и надежно, что влияет на все, исключительно на все принимаемые решения из абсолютно слепой зоны. Попробуй, поймай его, этот страх. Сколько ты успеешь построить в своей жизни под его влиянием перед тем, как он тебе на глаза покажется во всей его красе. Да так явно и очевидно, что не думать об этом человек уже просто не может и все равно начинает копаться глубже, оставаясь один на один с самим собой.
А вот чего Алексей не мог терпеть, ни в других людях, ни тем более в себе, так это комплексовать и бояться. Раз есть страх, и ты его боишься и не можешь это контролировать, тогда ты потенциально готов и можешь соврать. А это в парадигму жизни Алексея «по чеснаку» никак не вписывалось. Поэтому, со всем свойственным ему максимализмом, этот молодой успешный человек давным-давно причислил себя к людям, полностью победившим личные страхи, и жил честным и абсолютно от них свободным.
И вот приходит успешный такой, независимый и уверенный в себе молодой человек с предложением к другому, по-настоящему большому человеку, и вдруг слетает с него куда-то вся эта независимость и уверенность. И вдруг он чувствует, что ему элементарно страшно предлагать. Да и не предложение это вовсе, а звучит-то мелко, как просьба. И тут основная мысль, которая воспринималась как непреложно большая и даже глобальная, осыпается и превращается разве что в возню мышек за крошку хлеба под суровым и тяжелым взглядом большого человека с мышеловкой, давящий вид которого показывает лишь то, как его все эти ничтожные людские потуги на шару получить деньжат достали. И сам ты – ничтожество и достал, раз пользуешься своим знакомством для обсуждения такой хрени, о чем просишь.
Ты, взрослый бородатый мужчина, владелец виртуальных заводов, реальных машин и пароходов, внезапно и мигом превращаешься в сморщенного страхом мальчишку, ответившего учителю на твердую парашу на выпускном экзамене. Что это? Комплекс отличника? Или глубинный и не-пойми откуда взявшийся страх, ведущий к подсознательному и безоговорочному подчинению мальчика перед взрослым мужчиной, который представляет огромную, веками сформированную систему, способную тебя, такого успешного и независимого, сломать, как спичку, и перемолоть в труху?
Что бы это ни было, но этот страх показал себя тем вечером Алексею во всей своей мерзкой прелести, заставив лебезить и что-то робко мямлить, сидеть с холодными и мокрыми ладонями, подчиняясь абсолютной воле собеседника. Сидеть и терпеть пренебрежительное отношение высокой придворной особы к тебе, как к шавке подзаборной. А ведь он же именно от этого всю свою жизнь и бежал, не допуская никого выше себя. Никого и ни при каких обстоятельствах. Ни выше, ни ниже, так как пресмыкательство своих подчиненных он не переносил с таким же отвращением, как и свое собственное. Только паритет. Поэтому после разговора с Леонардом Аркадьевичем, Алексею срочно, срочно захотелось принять душ и смыть с себя не только впитавшуюся угарную вонь скуренного табака, но и помойное ощущение от собственного гнидного поведения. Но, опять же, именно поэтому не помог ни душ, ни виски в большом объеме, ни еле припоминаемая пьяная развратная ночь.
Все это, да и ничто другое, не могло заглушить чувства пережитого унижения, эдакой метафорической кастрации в форме психологического надругательства над чуть ли не самым основным мужским жизненным принципом. Не могло, потому что страх этот потерять мужское достоинство сидел очень глубоко, и Алексей со всей очевидностью понял, что такое же растоптанное ощущение он может испытать и в следующий раз. Ведь ровно так же любой высокий и влиятельный в глазах Алексея мужчина сможет психологически отчикать твоё мужское начало в любой момент, и что страшнее всего – уже, возможно, при свидетелях. И эта перспектива была неотвратимой, так как именно в это общество властных мужчин Алексей и стремился попасть и закрепиться. В мгновение ему стало совершенно ясно, что всё, что он успел построить в своей жизни к этому моменту, носило оттенок служения тому глубинному страху перед потерей мужского достоинства. Ровным счетом всё. Наличие в избытке дорогой недвижимости, роскошной движимости, раздувшийся до сложно контролируемых размеров бизнес и уже не поддающийся исчислению материальный достаток, беспорядочные и безлимитные отношения с женщинами, да даже сам брачный контракт – всё это было сделано для видимого увеличения мужского достоинства и в подчинении у страха в его неубедительности и ничтожности. И всё это стало жутко осознавать человеку, который считал себя непогрешимым, победившим все свои страхи и оттого живущим «по чеснаку» с самим собой. А на поверку, наружу вылез такой очевидный факт, который убил наповал. Убил всё, к чему стремился и чего уже достиг Алексей, уничтожив значимость достижений на корню и навсегда. И так-то геморроя у молодого отца хватало по горло, но это был уже полный конец.
Сидя под пледом в тихом одиночестве на панорамной террасе забравшегося выше облаков ресторана, он, не отрываясь, смотрел на края дощатого пола, выходившие за прозрачное ограждение террасы. Там, на самом краю, не по-майски скользком и залепленным мокрым сопливым снегом, доска казалась ему неплохим гигантским трамплином в новую жизнь. В жизнь, где есть шанс всё начать с чистого листа, так как в этой жизни Алексей уже не находил в себе силы что-то менять. Потому что это «что-то» касалось уже решительно всего.
Вот его персональные карточки очень важного гостя всех элитных столичных увеселительных заведений. Казалось бы, как долго он шёл к этому и как гордился достижением этого высокого статуса, великой мужской потенции. А сейчас они торчат из застывшего картофельного пюре в разные стороны и никак больше не способны помочь справиться с найденным страхом. Вот эксклюзивный телефон в платиновом корпусе, лежит в стакане с фруктовым лимонадом, освежается, и, выпуская наверх последние воздушные пузырьки, уже не мигает ни одним огоньком. А ведь по его звонку могли быть подняты по особой тревоге самые знойные красавицы города. Только вот вопрос – а на фига теперь? Или вот борода – символ мужественности, неукротимости, на бритой, рано полысевшей кожаной голове, она очень быстро уменьшается от огня зажигалки, воняя палёным. Ведь она так же никак не защитила Алексея тем вечером, на яхте Хозяина. Никак. Все эти внешние проявления мужественности, так сказать – сберегательный панцирь, оказались одновременно и бессильны, и бесполезны, никак не препятствуя пережитому унижению. И на кой тогда это всё нужно? Чего ради, если половозрелый самец хищного примата в самом расцвете своих сил почувствовал себя полным психологическим кастратом?
А ведь защитная оболочка этого глубинного страха, которая пронизывала все сферы его жизни, казалось такой прочной, такой идеальной. Алексей же очень гордился своей особенной гениальностью и прозорливостью, которая когда-то подсказала ему очень простую и очень верную идею, как нужно строить это всё. А идея-то была и впрямь не дурна собой, разочарованно вспоминал он, сидя на отшибе в ресторане и топя в лимонаде свои иллюзии.
Эту идею парень лелеял и хранил, как зеницу ока, считая своим ноу-хау. Он знал, как надо жить в эпоху технического прогресса. Ведь его придумали самцы. И только для того, чтобы охотиться и приносить добычу в логово, не выходя из него. Миллионы лет самцы двигались к реализации этой заветной мысли и вот настал век Интернета, который не многие заметили. Но Алексей-то заметил! Заметил, что это и есть воплощение этой основной идеи – выполнять свою мужскую функцию не выходя из дома, с дивана не вставая. К этому же и стремились пацаны. И вот настал такой момент. Век Интернета, автоматизации, роботов и искусственного интеллекта реализовал мечту. И всё так гладко шло. Так, твою мать, радовало…
Внезапно утонувший телефон подал последний признак жизни, и на мерцающем экране высветилось бледное сообщение от жены «Лёш, я не успеваю никак. Забери Сашу из садика к 8-ми. Люблю тебя! Чмок!». С абсолютно отрешенным взглядом Алексей стряхнул с бороды на грудь опалённые зажигалкой волосы и вложил в корзиночку с чеком кошелёк со всем его пухлым содержимым. А потом, с таким же опустошённым видом спустился в подземную парковку, сел в свою последнюю и полностью электрическую тачку T_la, которая всего несколько дней назад была предметом особой гордости и представлялась существенным мультипликатором мужского достоинства, ударил по педали акселератора и под визг шин вылетел со стоянки, снеся не успевший подняться шлагбаум, в сторону детского садика.
Глава 5.
Москва. Начало мая.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
На второй день после сломанного шлагбаума.
Аномально большая муха на белом отслаивающемся потолке незнакомого помещения не давала Алексею покоя. Она не летала, не ползала, не издавала никаких звуков. Она просто была. Но самим этим фактом, почему-то, привлекала всё внимание молодого мужчины. Именно её, спокойно сидящую и шевелящую передними лапками на шатающемся потолке, рассматривал его туманный пришибленный взгляд. А серое вещество, словно проснувшееся после долгой спячки, нехотя стало подавать первичные признаки примитивной мозговой деятельности и задавать вопросы.
Как она там держится, если всё вокруг ходит ходуном, как от землетрясения? Зачем она так тщательно моет руки? Перед едой? Кого она собирается съесть чистыми руками? Интересно, а мухи разве не засыпают от холода? Трясёт жутко, дикий колотун. А потолки бывают гибкими? Они разве из жидкости? При какой же температуре они замерзают? Мутит и подташнивает от этого потолка. Очень холодно. Где, вообще, моё одеяло? Чёрт, что же так болит-то всё? И вообще, где я?
Мозг Алексея потихоньку начинал отходить от наркоза, который забирал с собой сонное состояние и сопутствующий обезболивающий эффект. И если с потерей первого можно было как-то согласиться, то второе хотелось бы оставить наподольше. Боль по всему организму, видимо, запустила запоздавшую защитную реакцию и от дозы адреналина трусило мелкой дрожью даже уши, которые по ощущению хотели улететь скорее из этого ледника куда-то в теплые края. Хотелось как-то унять эти порхающие и рвущиеся в тепло локаторы, прижать их к голове ладонями, но мозг никак не мог найти руки. Их тоже трясло, и чувствовалось, как стук пальцев по неестественно твёрдому клеёнчатому матрасу передавался колебаниями на больную спину. Но элементы управления руками у мозга отсутствовали напрочь. В горле было сухо настолько, что язык присох к зубам намертво, как когда-то в детстве примерзал в холода к металлическим качелям.
В странное помещение с трясущимися стенами, жидким потолком и голодной мухой с чистыми руками уверенным шагом вошла молодая симпатичная незнакомая девушка в розовом медицинском комбинезоне, сшитом на удивление строго по её точёной фигурке. Перед собой девушка везла какую-то тележку с набором непонятного мигающего оборудования, проводов и прозрачных трубочек. С нижней полочки тележки раздавался мелкий дребезжащий звон катающихся по металлическим поддонам инструментов и пузырьков. Оглядев спокойным и ничего не выражающим взглядом пациента, медсестра откинула краешек тонкого одеяла с левой ноги Алексея, и, произнеся что-то короткое про обезболивающее, всадила ему в ногу больнющий укол, от которого бедро моментально свело в страшной судороге. Язык мгновенно отлип от зубов и позволил хозяину отметить эти неприятные ощущения от необходимой медицинской манипуляции протяжным горловым стоном.
– Терпи, Шумахер, – прохладно произнесла медсестра. – Сейчас подействует и станет полегче, а то тебя трясёт как осиновый лист. Дай-ка руку свою.
Девушка откинула одеяло ещё и с перебинтованной груди пациента, забыв вернуть уголок, покрывавший задубевшую в судороге ногу, перетянула жгутом плечо выше локтя и, дождавшись пока на трясущейся руке проявятся вены, загнала туда толстую игу с гибкой трубкой и включила какой-то прибор на тумбочке. По трубочке в Алексея побежала какая-то жидкость.
– Сейчас станет теплее и болеть должно перестать, – вернув одеяло на место сказала девушка. – Чувствуешь?
Да. Алексей почувствовал, что тепло словно растекается по всему организму, успокаивая дрожь и унимая боль. Судорога на бедре потихоньку стихала, и он с облегчением закрыл прослезившиеся глаза, поддавшись приятному ощущению успокоения.
– О, заработала пилюлька. Вижу. Теперь давай ногой твоей займёмся, – уже более бодро прозвучало от медсестры в сторону висевшего на металлическом штативе странного перебинтованного бревна.
Только сейчас Алексей увидел и осознал эту часть своего положения. На металлической вытяжке, закреплённой через заботливо просверленную докторами пятку, висела над кровесборником его правая нога. И, то ли от этой новости, то ли от введенного препарата, а то ли от резкой режущей боли процедурного характера, спровоцированной ловкими действиями медсестры, его повело, закружило снова и под звон в ушах выключило. Мысль о том, что, похоже, он крепко разбился и поломался, так и осталась недодуманной до конца.
Дальнейшее существование Вознесенского превратилось в непрекращающуюся череду коротких пробуждений и рваных отключек, иногда надолго, щедро сдобренных расписанными по минутам и мешающими провалиться в сон санитарными процедурами. Массивный опоясывающий гипсовый корсет на поломанной грудной клетке доводил до приступа бессильного бешенства, своей массой и жёстким конструктивом сковывая любые движения. Вынужденное состояние проживания, лежа в каменных доспехах, создавало не меньше дискомфорта, чем раздробленная и висящая через штырь на гире опухшая и посиневшая нога или через раз работающие внутренние органы. От обездвиженности в одном положении каждый час возникали судороги в руках, спине, ногах, проверяя своего хозяина на выдержку и долготерпение, словно по расписанию.
Постоянно хотелось есть. Однако множественные осколочные порезы на заштопанном лице Алексея напоминали о себе каждый раз, когда обладатель физиономии пытался хоть что-то пропустить себе в рот твёрже пустого больничного бульона. От перенесенного стресса и операционных вмешательств, он очень сильно потерял в весе и осунулся за непродолжительный период, представляя из себя довольно жалкое зрелище. Всё, что выпадало изо рта, застревало и засыхало в бороде, по соседству с подтёками запёкшейся крови. Красные заплаканные глаза старались не смотреть в сторону обездвиженной дырявой конечности, находя единственным развлечением созерцание ползающей по потолку жирной мухи. Мухи, у которой всё было нормально. Мухи, у которой не хрустела поломанными костями грудная клетка и не болела от сотряса башка, приводя к регулярным отключкам. Мухи, у которой все конечности были целыми и невредимыми. И чистыми, мать их за ногу. И которая могла улететь отсюда в любой момент и в любом направлении, но почему-то этого не делала. Будто ей доставляло какое-то странное удовольствие наблюдать за всеми мучениями Алексея. И эта скотина не отводила своего любопытного взгляда и не отворачивалась даже в интимные моменты личной гигиены.
И если физическую боль можно было как-то перенести, облегчая неприятные ощущения обезболивающими препаратами, то обезболить душевную боль было нечем. Сама мысль наполнить больничное судно рвала мозг Алексея на части, вызывая безумное отвращение, бессильную злобу и гадкое униженное состояние. Он ни при каких условиях был не готов просить медсестёр принести и подержать ему судно, пока он будет ходить под себя. Это вселяло дикий ужас в голову молодого мужчины, который не так давно был образцом пышущего здоровьем и достоинством носителя эталонного мужского генофонда, который все свои потребности обслуживал сам и только сам. Эта необхоимость доводила до блевотного состояния и сумасшествия, заглушая любую физическую боль. Но антибиотики работали и производили хороший побочный эффект. Поэтому, обессилевший Алексей чуть не плакал, пока молодая медсестра, деликатно опустив взгляд, держала под ним судно, с таким же нетерпением ожидая окончания опорожнения. И всякий раз в такие моменты зловонного унижения, которые на фоне антибиотиков случались куда чаще обычного, потолочная муха пялилась с издёвкой на измученного и опустошённого во все смыслах Алексея.
Однако, подавленное, растоптанное собственной беспомощностью, разбитое и раздробленное состояние Алексея довольно скоро дополнилось еще одним нюансом. Сколько именно прошло времени, Алексей точно сказать не мог, может, день, может, два или больше. Постепенно в сознании, стали всплывать отрывочные фрагменты воспоминаний. Под действием боли и медикаментов было ещё сложно воссоздать целостную картину происшедшего, но даже тех рваных кусков, которые возникали в памяти, было достаточно, чтобы сформировать стойкое и гнетущее ощущение чего-то непоправимого. Чего именно, Алексей не мог вспомнить, но ощущал, что его теперешнее состояние – это не единственная неприятность. И стоило ждать плохих новостей. Которые, кстати, не заставили себя долго ждать, и материализовались в палате в виде двух мужчин: лечащего врача и полицейского.
– Как вы себя чувствуете, пациент? – холодно спросил Алексея лечащий врач.
– Хреново, – процедил сквозь зубы Алексей.
– Всё, как вы и хотели, милейший. Говорить можете? – продолжил доктор.
– Говорю же, – ответил Алексей и утвердительно моргнул.
– Хорошо. К вам пришёл сотрудник из полиции для беседы. Я вас оставлю на пятнадцать-двадцать минут, не дольше. Вы меня поняли? – вопросительно обратился доктор к каменному лицу полицейского. – Он ещё слишком слаб. Большая внутричерепная гематома. Поэтому не более двадцати минут.
– Я вас услышал, – мигом среагировал сотрудник полиции. – Мне хватит.
– Хорошо. Тогда оставляю вас. Общайтесь, – произнёс строго доктор и вышел из палаты.
– Здравствуйте, – очень холодным тоном начал полицейский. – Меня зовут Роман Константинович Смирнов, капитан полиции. Мне поручено вести ваше дело.
– Дарова, капитан Смирнов. Лёша, – осторожно поприветствовал его Алексей.
– Вы помните обстоятельства происшествия?
– Очень смутно. Я на тачке ехал, помню.
– Да. Если коротко, то вы двигались на своем автомобиле по Кутузовскому проспекту в сторону области с превышением скорости. И, выскочив на выделенную полосу перед Триумфальной аркой, вы совершили лобовое столкновение с припаркованным там автомобилем патруля ДПС.
– Ни хрена себе… – ошарашенно протянул Алексей. – Гаишники живы?
– Сотрудники ДПС по счастливой случайности не пострадали, так как находились не в автомобиле. Ни один автомобиль восстановлению не подлежит.
– Я вас понял… – ощущая накатившее оцепенение и чувство страха прошептал Алексей.
– Вы помните, что в кабине своего автомобиля вы были не один?
– Саша! Что с ним? – со стекленеющим взглядом от накативших слёз простонал Алексей.
– Ваш сын не был пристёгнут ремнями безопасности. В момент удара его выбросило через лобовое стекло на проезжую часть. Все последнее время за его жизнь боролись врачи Морозовской детской клинической больницы. Мальчик поступил туда с множественными переломами и травмами. Сейчас его жизни, слава богу, ничего не угрожает. По состоянию на сегодняшнее утро, во всяком случае. Однако врачи опасаются открытия внутреннего мозгового кровотечения. И ещё одно, – тон полицейского стал совершенно колючим. – Врачам не удалось сохранить левую ногу вашего сына. По факту данного ДТП и ввиду его последствий, повлекших тяжкий вред и увечья здоровью человека, было возбуждено уголовное дело. Мне необходимо вас допросить как виновника ДТП. Вы готовы давать показания?
Звон в ушах Алексея нарастал с каждым произнесенным капитаном словом. Лежащие под одеялом ладони впились ледяными пальцами в клеёнку матраса и сжали её в исступлении. В глазах поползли чёрные, тошные мухи и заискрились еле видимые вспышки фосфенов. И сознание покинуло Алексея, оставив без ответа вопрос полицейского. В повисшей тишине был слышен лишь скрип покачнувшейся гири, висевшей на пятке его ноги.
Часть вторая.
“Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда её”.
Ф. Достоевский.
Пролог второй части.
Москва. Парк Горького.
Наши дни.
Коптит город небо, коптит своими лампами… Мы и коптим, люди городские, не можем пока по-другому. Не научилися. Машин очень много, целые реки, так, что аж из берегов. Однако выводят сейчас куда-то мануфактуры да фабрики. В ведомостях пишут, что взялись за «ржавый пояс», расчищат. Ржавый пояс… На пряжку свою гляжу, та тоже от времени зацвела. Оно же и правильно, наверное: всё, что устарело – уйти должно, не мешать. Раньше как-то даже и не замечал, что столько ненужного в городе. Каждый день ходил вдоль высоких бетонных заборов, всё удивлялся, что так крепко, на века построено. И вот не приходила же мысль, что это просто камни, а за ними нет ничего, идеи никакой за ними нету! А сейчас так очевидно, отчего-то, словно сняли пелену с глаз, как после операции. Если нет её, Идеи, то пиши-пропало: на стадионах тогда торгашей можно вместо спортсменов, детский садик под контору или офис какой. Без Идеи всё в камень превращается, в песок, в пустыню. Или в кладбище, ржавое кладбище посреди живого города. А сейчас словно просыпаемся. Они, молодые, нас и будят. Шустрые, деятельные, стоять не могут, всё в движении. А какое тут движение, с нашими заборами-то? Всё под снос, и правильно, ребятки, что под снос. Илюша мне говорит, что мы, дедушки да дяденьки, всю природу городскую в камень упрятали. Маленький, а соображат. Всё в город притащили – и нужное, и не нужное, везде либо забор, либо дорога, ни в мяч поиграть, ни на санках скатиться, ни по травке босиком. Нету места для детства. В парке-то нашем сейчас раздолье для Илюши, от бывшей шоколадной фабрики до, считай, воробьиной горы, во все стороны тротуары, велодорожки под клёнами да липами, площадки игровые, всё что угодно. Оно так и должно быть, чтобы ветер в волосах играл. Когда свободный ветер волосы трепет, то и мысли сразу свободные, творческие. К добру это всё. Оно как, вот за такое я на противотанковых ежах под Химками стоял. Ага, лежал… И другие полегли. Тогда не понимали мы этого, по молодости. А теперича, значение другое. Да и время другое. Только не хочу им мешать, обузой быть не хочу, забором этим, ржавым поясом, быть невыносимо. Пользу хочу несть. Хоть каку-то, хоть саму маленьку, крошечну, да пользу. А чем им помочь – не знаю, и они ничего не просят. Жалеют меня. Хорошо, что ещё хожу. Илюша меня выгуливат. Нельзя сдаваться, я так мыслю. Я же живой. А раз живу, значит, нужен ещё. Значит, могу быть полезен и должен быть. Только я, кроме как любить, больше и не способен ни на что, сил уже нет, как раньше. Разве и осталось силы, что только любить да ценить саму жизнь, да не свою, а их жизнь и их будущее. Сам удивляюсь, какая это силища во мне – Любовь. Вот что-что, а она с годами не ржавет.
Глава 1.
Отделение полиции.
Западный административный округ.
Москва. Начало мая.
Где-то три года назад.
Серый московский то ли дождь, то ли снег, под пронизывающий порывистый ветер, залеплял наглухо зарешёченные окна длинного четырёхэтажного здания отделения полиции. Его и без того мрачные стены из грязного силикатного кирпича, намокая с подветренной стороны, неопытному московиту, пожалуй, могли продемонстрировать разве что определенную безысходность. Безысходность в самом широком смысле этого понятия. Безысходность архитектора такого типа зданий для военных частей. Вынужденную безвариантность городских властей, не имеющих возможности снести это пост-архитектурное великолепие и построить на его месте что-то живое. И, самое главное, какую-то кармическую предопределённость жизненного положения людей, входящих в него в это не по-майски угрюмое раннее утро, особенно по работе. Даже свет, холодный мерцающий свет длинных ртутных газоразрядных ламп, пробивающийся на свободу из окон некоторых кабинетов, не только не разбавлял эту безрадостную картину, но и гармонично её подчеркивал, выстужая, если не сказать – вымораживая её изнутри.





