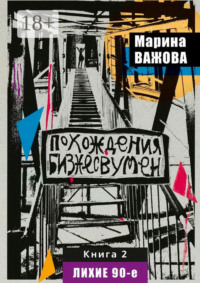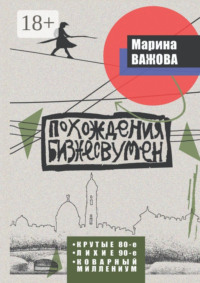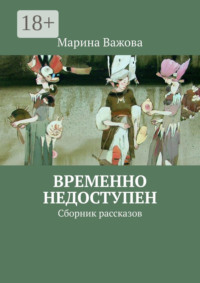Полная версия
Любаха. Рассказы о Марусе. Сборник
Маруся быстро нырнула в тепло тамбура, и состав тут же тронулся. Полупустые вагоны нехотя отошли от платформы, но потом встряхнулись, застучали бойко и деловито. Устроившись в уголке, Маруся равнодушно следила глазами за убегающими станциями, крышами, стволами облетевших берёз.
Как быстро прошёл этот праздник – лето! Молнией ослепил, оглушил громом грозового фейерверка, опалил игрушечными факелами внезапной жары. Вот только что, вот прямо на днях валялась она на жухлой траве солнцепёка, отворачиваясь от слепящих лучей. Прикрыв глаза, представляла, что всё впереди, что ветки усыпаны набухающими почками, сквозящей прохладой тает забытый в низинах снег, небо высокое-высокое, и птицы летят, возвращаясь на родину из чужих, вечнозелёных краёв.
А она, Маруся, сидит на «кукарешках» у папы – выше всех. Рядом, под ручку с ним мама, вкусно пахнущая «Красной Москвой», с мелко завитыми волосами, заколотыми с боков невидимками. Маруся плывёт по бесконечной аллее Приморского парка, крепко сцепив руки замочком под свежевыбритым папиным подбородком. Лица ей не видно, его закрывает белый парусиновый круг офицерской фуражки. Ухают трубы духового оркестра, и народ гуляет чинными парами.
Вот маленькая и узкая комнатка на Шкиперке, где они некоторое время жили, пока не уехали в Ленинабад, к папиным родителям. Мама в своём нарядном лиловом, с павлиньим глазом, крепдешиновом платье стоит возле гладильной доски, тихонько поворачиваясь, а папа утюгом гладит её юбку «солнце-клёш». Они опаздывают, и крёстная неодобрительно гремит в кухне кастрюлями. Маруся снизу смотрит на маму, на её стройные, обтянутые блестящими чулками ноги, узкое кружево розовой комбинации, возникающей моментами, когда папа подхватывает для глажки очередной шлейф «солнца». Мама, как всегда, подшучивает над папой, а он в тон ей зубоскалит, и они двигаются в каком-то ритуальном танце: мама, болванчиком переминаясь вокруг себя, папа, то и дело перехватывающий её широкий подол, чтобы шипящим утюгом сбить с лилового «солнца» хмурые складки. Они так молоды, так веселы… Всё впереди: и лето, и жизнь.
В Ленинабад ехали на поезде и добирались три дня – но Маруся этого не помнит. Зато она хорошо запомнила их с мамой возвращение, вернее побег. Они убежали с небольшим фибровым чемоданчиком, ушли среди белого дня под носом у подозрительной и немногословной «другой бабушки» и до отхода поезда прятались между товарными вагонами в тупике станции. А потом долго-долго ехали в тесноте, лёжа часами на верхотуре третьей полки. И до самого Ленинграда почему-то боялись, что их догонят и вернут. Но их никто не собирался догонять.
Только через два года папа попросил своего брата встретиться с мамой и уговорить возвратиться домой. Но ничего не получилось, и брат уехал, а Маруся с мамой остались жить в той же маленькой комнатке на Шкиперке, в одной квартире вместе с бабушкой. Маруся так и не узнала, почему они с мамой тогда сбежали и почему папа прислал брата, а не приехал сам. Когда она спрашивала об этом маму, та отвечала уклончиво или отшучивалась. Теперь уже не узнать. Мама не помнит Марусиного папу. Вообще все родственные связи в её представлении сдвинулись, времена смешались.
– Ну конечно, вы теперь можете со мной не считаться – я всего лишь ваша дочь! – произносит она с театральным пафосом.
– Ты наша мама! – восклицают Маруся с сестрёнками хором.
– Мама? Чего только не придумают, чтобы от меня отделаться!
В Выборге Маруся быстро нашла такси и уже через несколько минут подъезжала к Томасиному дому, где мама жила последние пять лет. Окошко на втором этаже было открыто, и Марусе подумалось: вот лежит она, наша мамулечка, под скошенным потолком, одна лежит в комнатке, то спит, то грезит наяву. Только иногда осознаёт всё чётко и ясно, всех узнаёт, про внуков спрашивает и понимает, что они уже выросли.
А то рвётся куда-то ехать, просит отвезти её домой. А куда домой? На Шкиперке дом пошёл на капремонт, в их квартире живут другие люди. В её доме на Карельском перешейке поселилась Лёлина семья, изъеденное жучком пианино выброшено. У всех своя жизнь, свои планы. Да и ей, кроме Томаси, которую она то и дело называет батей, никто не нужен. И ещё родные, оставшиеся в той далёкой блокадной зиме.
Иногда мама вспоминает про Эльку и просит кого-нибудь из дочек ей позвонить. А сама заранее волнуется: вдруг та не ответит, вдруг она уже… Но тётя Эля неизменно берёт трубку, и тогда мамулечка вовсю бодрится и говорит нарочито небрежным тоном. А после задумчиво шепчет, разглаживая морщины на пододеяльнике: «Как она там одна? Ведь никого у неё нет. Случись что, и воды подать некому».
– Ну, почему некому? – успокаивает Маруся, – к ней соцработник дважды в неделю приходит: в магазин сходить, пол помыть. И ещё дяди Васина внучка – ну, из его другой семьи, с которой он никогда не жил – она иногда заходит, помогает.
Но мама ещё долго тревожится, то и дело повторяя: ей меня не пережить, нет, не пережить. А потом месяцами не вспоминает про свою подругу Эльку, а если и вспомнит, то прежнюю девчонку, закапывающую под липу свои «сокровища» перед отъездом в эвакуацию. Там, в маминых воспоминаниях, она и живёт, спасается от войны. А потом приезжает, и они по очереди ходят на танцы – одни туфли на двоих – но разве в этом дело?..
Томася встречает на пороге весёлая. Всё отлично удалось, всё, что задумано. От лица администрации маму приехала поздравить с юбилеем целая делегация – с цветами, подарками и открыткой из Кремля. На самом деле ничего такого не было, про маму власти давно забыли. Это Томаськины подружки постарались, благо мама теперь никого не узнаёт. Зато как довольна! Сидела с намытой и причёсанной головой в новой красной кофточке и горделиво приговаривала: «Вот так надо жизнь прожить, чтобы все помнили. А как я их насмешила! Что ж, и директор поздравил, как ему такую хризантему не поздравить! Но я ему тоже многое могу сказать, он мужик с юмором. Юмор – вот что главное в людях!» И пела, даже гитару попросила, но она, конечно, не настроена. Томася подмигивает: мама давно уже не может играть, но гитару просит регулярно и каждый раз пренебрежительно возвращает – не настроена.
Маруся поднимается наверх, и ещё с лестницы в нос бьёт тяжёлый запах. Несмотря на памперсы, мытьё и постоянные переодевания, этот запах – запах старости и давно лежачего больного – проник во все уголки и щели. Букет осенних хризантем не в силах его заглушить. Но только в первые минуты. Потом притерпишься и не замечаешь. Маруся открывает узкую белую дверку. Мама спит, её смешной седой «ирокез» торчит над подушкой, а рот раскрыт. Клоун ты наш любимый, всё бы тебе смешить!
К вечеру все собираются вокруг мамы: Томася к ней под бочок заваливается, Маруся в кресло напротив, Лёля в ноги на кровать садится. Маруся вся в деда: много песен знает, голос не сильный, но приятный, мелодию не врёт. Сначала поют песни маминой молодости, потом – Марусиной. Мама довольна, оживлена, тоже подпевает. Вдруг лицо её становится растерянным, глаза моргают, уголки губ ползут вниз.
– Вот вы смеётесь, поёте, а сами втихаря не думаете уехать, а СТАРУХУ здесь оставить?
– Ну, вот, начинается… Куда ж мы отсюда уедем?! Никто тебя не оставит, скажи, Маруся.
– Конечно, нет. Всегда с тобой будем, наша доченька. Только чайку попьём, и от тебя ни на шаг. Поставь чайник, Томася.
Когда все ушли, Маруся села возле матери и прижала к губам её худую узловатую руку с прозрачными пальцами. Мама смотрела куда-то вверх, в невидимое с её кровати небо, а потом сказала Марусе: «Ну, иди, я пока посплю». Но Маруся всё никак не могла уйти, ей казалось, что маме будет очень скучно лежать одной, смотреть и не видеть осеннего холодного неба с белым росчерком неслышного самолёта. А ещё ей хотелось расспросить маму о блокаде, об отце, узнать, наконец, почему же они расстались.
Но мама как будто её не видела. Она прикрыла глаза, и Маруся уже было направилась к двери, но тут же оглянулась от ощущения, что за спиной кто-то стоит. Мама, чего уже давно не случалось, сидела на кровати, опираясь локтем на подушку и протянув к Марусе чуть дрожащую, голубую от выступающих вен руку. И вдруг произнесла ясно и взволнованно:
Дай последний раз поцелую,моё сердце в твоё перелью,А потом по широкой дорогея уйду от тебя навсегда.Никогда никого не любилаи сейчас никого не люблю,Только сердце так сильно заныло,я ушла далеко-далеко…***
Мама умерла в среду. Томася была выходная, и утро начиналось как обычно: мама стучала палкой в пол, и Томася поднималась на второй этаж с чашкой чая в руках. В этот раз, глядя мимо Томаси, мама сказала: «Мне на завод надо, у бати сегодня получка, пойду встречу». Она попыталась встать, но не смогла и беззвучно заплакала. Ей стало тяжело дышать, в глазах всё кружилось, а сердце стучало с перебоями. Томася дрожащими руками отмеряла капли, вкладывала в безвольный рот таблетки, заливая их водой из чайничка.
Мама лежала на высоких подушках, и выражение испуганной девочки не сходило с её лица. Была вызвана «скорая» и, пока врачи ехали, Томася растирала маме спиртом ледяные ноги. Приехал доктор, вколол лекарство, и мама закрыла глаза, задышала ровно, засыпая. А потом и вовсе перестала дышать, как будто так и надо, как будто необходимое людям дыхание стало ей абсолютно не нужным.
Томася улеглась рядом с матерью, свернувшись клубком и обхватив колени руками. Вся мокрая от слёз, лежала она с закрытыми глазами, уткнувшись в мамино неподвижное плечо, и говорила, говорила. Как всё будет хорошо, как они заживут все вместе, как поедут к бате. Мама слушала молча, и это было так непривычно – она всегда что-то отвечала. Любила, чтобы последнее слово было за ней…
Любаха плыла на своей старенькой кровати по улицам-каналам Васильевского острова. Она плыла в сторону Гавани, по Шкиперскому протоку, мимо Вёсельной улицы – домой. А на берегах шла своя жизнь, и никому не было до Любахи никакого дела. Вот уже она пересекла Гаванскую, ещё издали заметив, что возле парадной её дома толпится народ, руками машет, встречает. Её, Любаху, встречают! Тут и батя, и мамка с Нинкой и Настей, обнявшись, стоят. Саватеевы все до единого – нарядные, с цветами; соседка тётя Вера в рабочем синем халате – с ночной смены, видно, шла. А позади всех – крёстная с сыном Лёвушкой. И так тепло, так радостно стало Любахе и в то же время так спокойно, как никогда раньше не бывало. Всё кончилось, всё позади. Наконец-то она дома!
РАССКАЗЫ
О МАРУСЕ
КИТАЙСКАЯ КОФТОЧКА

Мороженое
Июнь стоит такой жаркий, что плавится асфальт. Все стараются ходить по теневым сторонам улиц, и оставшаяся с войны табличка на Невском: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!», приобрела новое значение. Залитый беснующимся солнцем тротуар порой, как и в блокадные годы, принимает в свои шершавые объятия свалившихся от солнечных ударов граждан. Правда, горожане приловчились уезжать на выходные за город, где жар усмиряется ветерком с залива, охлаждается под сводами лесного шатра, так что солнечная шрапнель достаётся в основном неуёмным туристам.
Маруся томится в городе. Почему-то никак не могут решить с дачей. Ту, прежнюю, в Осельках, сдали какому-то плешивому дядьке, сдали за их спиной, подло проведя тайные переговоры, набивающие цену: «Не знаем, что и делать, у нас есть постоянные жильцы, как мы им откажем? Ведь нужны веские причины…». Деньги – очень веская причина, а новые съёмщики богаты. Тётя Женя говорит, что за воротами стоит новенький «Москвич», а по участку бегают трое детей – все мальчики – и собака-такса. А им, квартировавшим много лет, отказали.
Тётя Женя так обиделась, что и соседнюю дачку, Тонину развалюху, смотреть не пошла, хотя та была ещё не занята: «Не смогу я в ту сторону глядеть и видеть, как их шпана резвится на качелях, с таким трудом установленных нашими собственными руками!» Уехала, даже объявления на столбе у платформы читать не стала. Всё, с Осельками навсегда покончено! А теперь дачу не снять – каникулы начались. В каждой халупе и пристройке что-то моют, красят, тюль развешивают. Дети на великах и самокатах, старушки в панамах.
А Маруся осталась в городе, ей скучно. Она то порисует, то поиграет, то в окошко поглядит. А там знакомая до мелочей картина в раме отмытого перед майскими праздниками окна. Жёлтые стены двора-колодца имитируют солнечный свет, карнизы крыш с ржавыми ограждениями, давно не дымящие трубы, антенны, распятые черными проводами, слуховое окно чердака с разбитым стеклом… Ничего интересного.
Хорошо хоть бабушка купила мороженое. Самое дешёвое, за семь копеек, в бумажном стаканчике, фруктовое, холодное и твёрдое. В какой-то момент от него даже заморозилось нёбо – так было, когда ей драли зуб. Но потом всё быстро прошло, лишь на языке остался вкус чёрной смородины.
Сестра Оля пришла из школы, где проходила летнюю практику в школьном саду, высаживая на клумбы рассаду анютиных глазок. Оля – двоюродная сестра, тёти Женина дочка, но Маруся об этом постоянно забывает, ведь живут они вместе, как родные. И хотя они совсем не похожи: Оля светленькая и кудрявая, с белёсыми бровями и ресницами, а Маруся темноволосая, широкие бровки с хохолком, – но их все сразу признают сёстрами. Наверно из-за веснушек и вздёрнутых носов.
Они быстренько пообедали и вместе пошли гулять в Зелёный сад, через дорогу от их Шкиперского протока. Там есть карусель и павильон, где продают газировку и мороженое шариками на развес. Белый такой павильон, под крышей, со сквозными деревянными решётками и тремя круглыми столиками.
– Ты сегодня мороженое ела? – спрашивает Оля.
Маруся опускает голову и тихо произносит: «Нет». Но сестра и не слышит, она поглощена подсчётом мелочи, прикидывает, сколько шариков можно будет взять, и хватит ли на сироп. Получилось по два шарика на нос, а сироп только один.
– Мне не надо сиропа, – великодушно заявляет Маруся, мгновенно забыв, что только что обманула сестру. У неё опять становится легко на душе, ведь обычно всё вкусное отдаётся ей, как самой младшей в семье. А тут она сама отказалась от сиропа – значит, враньё не считается.
Правда, только потому не считается, что мама не в курсе. Вот если бы она вдруг оказалась дома, сразу бы узнала про все Марусины проделки. Такая уж у неё мама: Марусю видит насквозь, а больше всего не любит, когда врут. Посмотрит внимательно своим особым, пристальным взглядом, и сразу всё как на духу хочется выложить. Она любит повторять: «Лучше любая правда, даже самая ужасная, чем красиво придуманная ложь».
Но это было раньше. Теперь, когда мама уехала в геофизпартию, – «завербовалась», по словам бабушки, – в далёкий Комсомольск-на-Амуре, она уже три месяца только письма пишет. Ну а в письмах, конечно, ни про какое враньё не поминает. Потому что скучает. Маруся тоже очень скучает и от этого иногда безо всякой нужды сочиняет. Вот и теперь зачем-то сестру обманула, а сама ведь ела мороженое, сиреневое, в бумажном стаканчике…
Под конец прогулки, когда уже к дому повернули, встретили Олину одноклассницу, Лиду Маркину, по прозвищу Маркуша. Её дедушка когда-то взял фамилию матери и стал Маркиным. А вообще они из древнего рода Нарышкиных, но об этом говорить громко нельзя, а то у Лидкиной мамы, которая работает в «ящике», могут быть неприятности. Маруся представляет себе громадный ящик с боковой крышкой-дверью, из которой после работы выходят люди, щурясь от солнца. Брехня какая-то! Не могут советские люди в ящиках работать. Это в Америке так негры живут. Надо всё-таки расспросить Ольгу, что за ящик такой секретный.
Мама у Маркуши всего лишь инженер, а вот папа по девять месяцев в году сидит на льдине – он полярник. Потому и живут они шикарно, в отдельной квартире со множеством красивых и полезных вещей, с ванной и телефоном. У Лидки всегда на школьном форменном платье кружевные воротнички и манжеты, вместо чулок она носит колготки с узором и по воскресеньям ходит в музыкальную школу. Но, несмотря на такие классовые различия, Маркуша очень хорошая: всегда с Марусей поговорит, конфетой угостит или даст красивую переводную картинку. Вот и сейчас первое, что спросила:
– Мороженое будете?
– Мы уже ели, – стойко отвечает Маруся. Но Лидка охвачена великодушием, и они снова оказываются в белом павильоне. У подруги в руках – целый рубль, который она протягивает тётеньке с кружевным хохолком на голове и говорит уверенно:
– Три по сто крем-брюле с сиропом.
Оля пытается протестовать: во-первых, стыдно одалживаться, во-вторых, Маруське больше нельзя, а без неё есть не станешь. Лидка быстро находит компромисс:
– Она будет есть медленно, греть во рту.
Но греть мороженое как-то не получается. Это уже и не мороженое вовсе, если тёплое. Для порядка Маруся всё же чуть задерживает ложку, якобы дышит на неё. Потом все пьют газировку, она щиплет в носу и выходит с отрыжкой, которой Маруся очень стесняется, а посему быстрее запивает её следующим глотком. Подруги о чём-то секретничают, то и дело сдвигая поближе головы и переходя на шёпот: «Ты думаешь, он серьёзно? Болтает всякую ерунду!». На Марусю никто внимания не обращает, и она всё подливает и подливает в свой стакан пузырящийся напиток.
Дома ждёт сюрприз. Тётя Женя получила отпускные и по этому поводу купила торт-мороженое. Он стоит на самой середине круглого стола и пленяет воображение розовыми и жёлтыми розами с мармеладно-зелёными листиками. И платье у тёти Жени под цвет торта: с розовыми и зелёными квадратами.
– Маруське нельзя, она уже ела мороженое! – предупреждает Оля, но не говорит, что они обе уже дважды им полакомились. Иначе и ей, пожалуй, не дадут торта. Но взрослые снисходительно относятся к её словам – ведь жара невыносимая! – и разрешают немного попробовать. Розовое имеет клубничный вкус, жёлтое пахнет дыней, а зелёное – конфетами дюшес. Все едят ложечками прямо от целого торта, и никто не замечает, что Маруся слишком усердно снимает пробу.
Больница
На другой день у Маруси заболело горло, а к ночи поднялась высоченная температура. Её кое-как сбили растиранием водкой с уксусом, а утром вызвали врача. Оказалось, ангина. Целую неделю Марусю лечили таблетками и полосканиями, но ей становилось всё хуже. Распухли суставы, они ныли днём и ночью, и Маруся спала урывками. А потом врач сказал, что надо ехать в больницу, и обещал прислать машину.
В больнице температура спала, но суставы продолжали ныть и пухнуть. Самым паршивым было то, что Маруся не могла поднять головы от подушки: у неё сразу начиналось головокружение, подступала тошнота. Ещё она пила совершенно мерзкую «салицилку», которая не задерживалась в Марусином организме ни на минуту. Так что вскоре давать перестали, заменив порошками.
Бабушка приходила каждый день, усаживалась рядом с Марусей и, заколов шпильками на затылке чёрные, будто лаковые волосы, доставала из сумки фрукты и печенье. Но Маруся ничего не могла есть, её продолжало тошнить. Она слышала разговоры вокруг и понимала, что дела её становятся всё хуже. Весёлый доктор, Михал Михалыч, который лечил Марусю, совсем перестал шутить. Он по несколько раз в день подходил к её кровати, щупал пульс, надавливал пальцем на похудевшие ноги и приговаривал: «Только и есть в тебе хорошего – твои вены». Они и впрямь были ровными и выпуклыми, медсёстры легко их находили и делали бесконечные уколы. Но постепенно вены стали проваливаться, покрылись частыми бугорками, и некуда уже было втыкать иголку.
Марусю перевели в маленькую, узкую палату, где стояло только две кровати: её и трёхлетнего мальчика Коли с врождённым пороком сердца. Коля лежал очень тихо, мама читала ему сказки и кормила с ложечки домашним бульоном.
Как-то ночью Маруся проснулась от света. В палате было много народа, Михал Михалыч отдавал отрывистые приказания, и сестрички несли высокую стойку с прозрачными трубками. А утром, когда Маруся открыла глаза, Коли в палате уже не было. Нянечка сказала, что его повезли на операцию. Она ещё хотела поговорить о Коле, но постовая дежурная сестра на неё строго взглянула и велела заниматься своими делами. Колю назад не привезли. После операции, сказала нянечка, дети остаются на хирургии, пока их не выпишут домой.
Так Маруся оказалась в палате одна. Она лежала в узкой, похожей на кусок коридора, комнате, единственное окно которой пропускало пятнистый свет. Маруся не видела, что там, за окном, не могла сесть и лишь догадывалась, что свет застревает в листве большого дерева. Она много спала, а просыпаясь, видела рядом с собой то бабушку, то тётю Женю – значит, сегодня выходной – то целую толпу в белых халатах. Это был консилиум врачей. Они решали, как лечить Марусю, чтобы она, наконец, поправилась. Потому что поправляться у неё не получалось. Невесомое и плоское под одеялом тело упорно не реагировало на новейшие лекарства, которые Михал Михалыч «доставал» в спецраспределителе. Ко всем неприятностям добавился слон: он сел к Марусе на грудь и мешал ей дышать. У слона было красивое имя: Миокард – так его называл доктор.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.