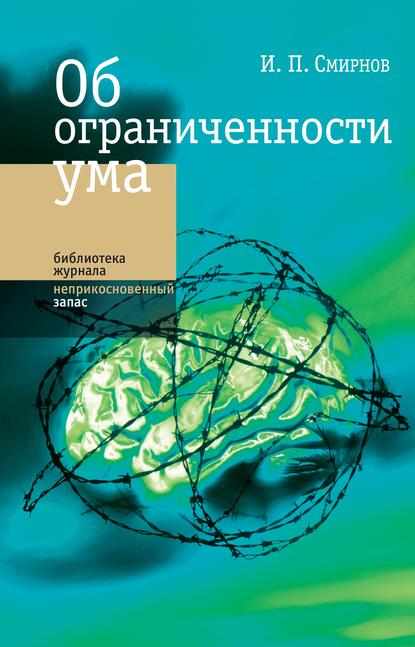Полная версия
Будущее ностальгии
Тем не менее ностальгия просачивается в ницшеанские образы, порождая картины окончательного забвения, когда герой надеется выйти за пределы памяти и утраты воспоминаний в космос и бескрайнюю пустыню. Ницше не удавалось оставаться дома в домашнем хозяйстве «без затрат и убытков». Тоска по дому одолевает его. Только его собственная икона ностальгии эпохи модерна – это не статная незнакомка, а знаменитый сверхчеловек Заратустра, обретающий дом лишь в своей душе: «Надо жить на горах. Блаженными ноздрями вдыхаю я опять свободу гор! Наконец мой нос избавился от запаха всякого человеческого существа! Защекоченная свежим воздухом, как от шипучих вин, чихает моя душа, – чихает и весело приговаривает: на здоровье! Так говорил Заратустра»[103]. Таким образом, прибежище модернистского философа не так уж современно. Скорее, это альпийский пейзаж романтических возвышенных и швейцарских сувенирных открыток. Ницше играет драму социальной театральности – чихания и произнесения слов «на здоровье!» в театре его души. Ни Философ, ни его герой-сверхчеловек не являются городскими фланерами. Ницше называл себя «хорошим европейцем», но он так никогда и не побывал в бодлеровском Париже, «столице XIX века». Ницшеанский «лучший миг» – это не урбанистическое озарение, а душевные воспоминания на вершине горы.
Трактат «О пользе и вреде истории для жизни», в котором Ницше дает критику монументальной и античной истории, представляет собой весомый довод в пользу рефлексирующей истории и здорового забвения жизни. В описании этой здоровой забывчивости Ницше воспроизводит еще одну пасторальную ностальгическую сценку – в стиле Жан-Жака Руссо в комплекте с коровьими колокольчиками. Человек эпохи модерна описывается как «лишенец и изводящий себя ностальгик по пустыне», которого философ приглашает наблюдать за братьями своими меньшими и учиться быть счастливым, освобождаясь от бремени прошлого:
«Погляди на стадо, которое пасется около тебя: оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, тесно привязанное в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения и потому не зная ни меланхолии, ни пресыщения. Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье – ибо он, подобно животному, желает только одного: жить, не зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй, спросить животное: „Почему ты мне ничего не говоришь о твоем счастье, а только смотришь на меня?“ Животное не прочь ответить и сказать: „Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать“, – но тут же оно забывает и этот ответ и молчит, что немало удивляет человека»[104].
Философ тоскует по нефилософскому мироощущению, свойственному коровам, но, увы, бездумное животное не отвечает взаимностью. Философский диалог со счастливыми коровами – это комическая неудача. Ностальгируя по доностальгическому состоянию бытия, философ довольствуется лишь иронией. Ирония в данном случае вытесняет философа из его собственного мировоззрения. Коровы смотрят мимо него, лишая его счастливого видения. Припоминание забвения оказывается чем-то еще более сложным, чем репрезентация настоящего, которую Бодлер пытался воспроизводить в своих стихотворениях. Ирония, в случае Ницше, отражает двусмысленность положения современного человека, который иногда выглядит как демиург будущего, а иногда и как печальное разумное животное.
«Модернизм – это именно то, что всегда пробуждает доисторическое», – писал Вальтер Беньямин[105]. Беньямин не раз обращался к критике прогресса и исторической причинности несколько иным образом. Преследуемый бременем истории, он не мог найти прибежище в природе или доисторическом времени. Счастливые коровы Ницше или первобытные общины Маркса мало интересовали Беньямина. Как и Ницше, Беньямин был эксцентричным мыслителем эпохи модерна, только его современная Аркадия была не альпийским высокогорьем, а парижскими торговыми пассажами и городскими блошиными рынками. Модернистский герой Беньямина должен был быть одновременно коллекционером памятных предметов и мечтателем, грезящим о будущей революции, тем, кто не просто живет в ушедшем мире, а «воображает лучшую жизнь, в которой вещи освобождаются от тяжелого обременения полезности».
Последним испытанием для модернистского героя Беньямина была поездка в Москву зимой 1926/27 года. Беньямин через три года после смерти Ленина отправился в советскую столицу по личным и политическим причинам, чтобы увидеть свою подругу Асю Лацис[106] и прояснить свое отношение к Коммунистической партии. Поездка привела к эротической неудаче и идеологическому отступничеству. Роман Беньямина с официальным коммунизмом шел по тем же скользким улицам зимней Москвы, что и его роман с Асей. Вместо личного счастья и обретения интеллектуальной принадлежности Беньямин получил парадоксальное представление о советской жизни с необычными проясняющими озарениями. Беньямин удивил своих друзей-леваков, которым Москва представлялась столицей прогресса и лабораторией будущей мировой революции, описав устаревшую коллекцию деревенских игрушек и странный ассортимент предметов, продающихся на блошином рынке: экзотические фантазийные птицы из папье-маше и искусственные цветы, главная советская икона, карта СССР и картина с образом полуобнаженной божией матери с тремя руками рядом с изображениями святых, «в окружении портретов Ленина, как заключенный между двумя полицейскими». Каким-то образом эти странные повседневные противопоставления прошлого и будущего, образы домодернистской промышленности, традиционной русской деревни, играющей в прятки в советской столице, были для Беньямина важными уликами, которые бросали вызов идеологическим репрезентациям. Неконгруэнтный коллаж московской жизни представлял собой альтернативный образ эксцентричного модернизма, оказавший глубокое влияние на прогресс в последующие периоды XX века. Несмотря на незначительные неточности, рассказ Беньямина о Москве конца 1920‐х годов в ретроспективе выглядит исполненным куда большей любезности и понимания, чем многие другие описания его современников-иностранцев.
Беньямин думал о Прошлом, Настоящем и Будущем как о наложении времен, что напоминает современные фотографические эксперименты. По его мнению, каждая эпоха мечтает о следующей и при этом переосмысливает ту, которая ей предшествовала. Настоящее «пробуждается» в мечтаниях о прошлом, но остается «обложенным» этими мечтами. Раздувание, пробуждение, констелляция – это беньяминовские образы взаимосвязи между различными временами. Таким образом, Беньямин, подобно Ницше и другим ностальгирующим личностям эпохи модерна, восстал против идеи необратимости времени, только вместо образа ницшеанских волн вечного возвращения он предложил жемчужины кристаллизованного опыта. Беньямин никогда не разыгрывает идеальные сцены ностальгии – интегрированную цивилизацию или пустыню забвения. Вместо этого он играет с «веером памяти», который раскрывает нам новые уровни забвения, но никогда не позволяет дойти до его исходной точки: «Тот, кто когда-то начал открывать веер памяти, никогда не доберется до его последнего сегмента. Ни один из образов не удовлетворяет его, поскольку он видел, что веер можно разворачивать дальше, и только на складках живет правда»[107]. Беньямин хотел «раздуть искру надежды в прошлом», чтобы заново вернуть историческую традицию из пустого континуума забвения. Констелляции – это тот случай, когда прошлое «актуализируется» в настоящем и мгновенно принимает «узнаваемость в этот миг». Они приводят к революционным столкновениям или профанным толкованиям. Метод Беньямина можно назвать археологией настоящего; именно настоящее и его возможности – это то, в отношении чего он испытывает предельный уровень ностальгии.
Беньямин любил стихотворение Бодлера, посвященное прохожей-незнакомке. Поэт испытывает шок узнавания, который дает муку удовольствия и боли. Она может быть потеряна как любовь с первого взгляда, но не как «любовь с последнего взгляда», по выражению Беньямина. Она воссоздается благодаря стихотворению, которое находит новые отголоски в будущем. Точно так же истории об угнетенных людях или о тех людях, которые считались исторически незначимыми, а также сувениры в торговых рядах и списанные со счетов предметы из ушедших эпох, могут, таким образом, обрести спасение – и вновь стать значимыми в будущем. Этот предельно оптимистический взгляд человека, который сопротивляется хаосу и преходящей природе вещей и людей в эпоху модерна, мог бы поразить нас, если бы у Беньямина не было личного предчувствия катастрофы. Верный своему методу материальной истории, Беньямин собрал в своих небольших блокнотах значительное количество наблюдений, снимков повседневной жизни, цитат и вырезок, которые должны были дистиллировать его исторические прозрения и образовывать «констелляции», в которых прошлое сливается с настоящим или настоящее предвосхищает будущее. Среди тех перлов, которыми он делился со своими друзьями, был репортаж из Вены 1939 года, рассказывающий о местной газовой компании, которая прекратила поставки газа евреям. «Потребление газа еврейским населением связано с потерями для газовой компании, поскольку крупнейшими потребителями являлись именно те, кто не оплачивал свои счета. Евреи использовали газ, в том числе и для совершения самоубийств»[108].
В конце концов, рождение ностальгического недуга было связано с войной. В XX веке, с его мировыми войнами и катастрофами, вспышки массовой ностальгии часто возникали после подобных бедствий. В то же время опыт массового уничтожения исключает приукрашенную реконструкцию прошлого, привнося в рефлексирующее сознание подозрительность по отношению к ретроспективному взгляду. Беньямин предлагает нам икону катастрофического модернизма в своем описании картины Пауля Клее.
«У Клее есть картина под названием Angelus Novus. На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть Ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас – цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу. То, что мы называем прогрессом, и есть этот шквал»[109].
Если на какое-то мгновение мы остановимся на этом мессианском образе, то сможем предстать перед лицом ангела истории, как описывает его Беньямин: на пороге прошлого и будущего, обрамленном модернистской живописью. Ангел не трогает нас буквально, он обращает взор в нашу сторону, но не на нас; отвлекая наш взгляд от бурного видения прогресса, но не позволяя нам вернуться назад, ангел не может ни собрать воедино прошлое, ни охватить будущее. Бури, бушующие в раю, отражают сломы исторических эпох, инвертируя векторы прошлого и будущего. Ангел истории замирает в неустойчивом настоящем, неподвижно, среди всех ветров, воплощая то, что Беньямин назвал «диалектикой в тупике». И даже здесь мессианское домодернистское видение сталкивается с визуальной диалектикой модернистской живописи, где противоречивые знаки и образы сосуществуют без какого-либо возможного разрешения или синтеза и где новая геометрия пространства допускает множество альтернативных планов существования. Волосы ангела разворачиваются, как нерасшифрованные священные свитки; его крылья вывернуты наизнанку, как лента Мёбиуса, где будущее и прошлое, левое и правое, оборотная и внешняя стороны выглядят обратимыми.
Этот ангел истории олицетворяет собой рефлексирующую и внушающую трепет модернистскую тоску, которая пронизывает искусство XX столетия и выходит за пределы измов. Местные версии истории модернистского искусства, такие как у Клемента Гринберга[110], оказавшие влияние прежде всего в американском контексте, или Петера Бюргера[111], которые в основном касаются западноевропейских художественных течений, особенно сюрреализма, далекого от Гринберга, получили достаточно внимания критиков. Существует еще одна традиция искусства и мысли XIX и XX веков, которая должна быть реабилитирована в беньяминовской манере, гибридная традиция нечистого модернизма. В этой традиции поиск нового языка может исследовать диалекты прошлого, не только эсперанто будущего (Стравинский против Шёнберга, в музыке); отчуждение может быть не только художественным, но и экзистенциальным принципом; политика может варьироваться от утопического до антиутопического и анархического, саботируя как буржуазный здравый смысл, так и новую революционную ортодоксию[112].
Искусство XX века было в восторге от префиксов «нео-» и «пост-» и множества различных «-измов». Постмодернизм был последним из таких движений[113]. Постмодернисты реабилитировали ностальгию вместе с поп-культурой, но ностальгия оставалась ограниченной кавычками цитат, сводящихся к использованию элементов исторических стилей; все это не было поиском иной темпоральности. В конце концов даже протестный постмодернизм признал этот парадоксальный провал. Как отмечает Хал Фостер[114], постмодернизм не проиграл, но «произошло нечто худшее; изначально рассматриваемый как мода, постмодернизм превратился в demode»[115].
Вместо того чтобы принимать сторону антимодернизма или антипостмодернизма, более важным представляется пересмотр незавершенного критического проекта эпохи модерна, основанного на альтернативном понимании темпоральности, – не в качестве телеологии прогресса или трансцендентности, а в виде суперпозиции и сосуществования гетерогенных времен. Бруно Латур задается вопросом, что произойдет, если мы подумаем о том, что мы «никогда не были людьми модерна», и начнем изучать гибриды природы и культуры прошлого и настоящего, которые населяют современный мир. Затем нам нужно будет повторить свои шаги и замедлить работу: «применять, а не заново открывать, привносить, а не исключать, относиться по-братски, а не изобличать, классифицировать, а не уличать в обмане»[116].
Искусство и образ жизни офф-модернизма исследуют гибриды прошлого и настоящего. Вот некоторые из наречий, относящихся к этому обсуждению, которые будут использоваться: «в сторону» (aside) и «за кулисами» (offstage), «расширяющиеся и ответвляющиеся от чего-либо» (extending and branching out from), «слегка безумные и эксцентричные» (выбивающиеся из колеи) (somewhat crazy and eccentric (off-kilter)), «отошедшие или отстраненные от дел и обязанностей» (absent or away from work or duty), «атональные» (off-key), «аритмические» (offbeat), порой – «внецветовые» (off-color)[117], но не «выпавшие из обоймы» (offcast). В этой версии понимания эпохи модерна привязанность и рефлексия не являются взаимоисключающими, а напротив – подчеркивают друг друга, даже когда напряженность остается неснятой и тоска – неизлечимой. Многие офф-модернистские художники и писатели происходят из мест, где искусство, хотя и являлось внерыночным явлением, продолжало играть важную социальную роль и где модернизм развивался в контрапункте со своей западноевропейской версией и версией США, от Рио-де-Жанейро до Праги. Русский писатель и критик Виктор Шкловский, изобретатель остранения[118], написал свои самые ностальгические тексты сразу после революции во время своего короткого периода изгнания в Берлине. Вместо того чтобы идти в ногу с революционным временем, с нетерпением ожидая светлого будущего, писатель двигался по диагонали, как фигура «Слон» в шахматной игре, обращаясь лицом к нереализованным потенциалам и трагическим парадоксам революции: фигура «Слон» может двигаться одновременно вертикально и горизонтально, пересекая черные и белые квадраты, бросая вызов власти. Шкловский предположил, что культурная эволюция не всегда происходит по прямой линии от родителей к детям, но через боковую ветвь генеалогии, через дядюшек и тетушек. Маргиналии определенной эпохи не просто становятся ее памятными вещами; они могут содержать зерна будущего. Среди офф-модернистских творцов много изгнанников, в том числе Игорь Стравинский, Вальтер Беньямин, Хулио Кортасар, Жорж Перек, Милан Кундера, Илья Кабаков, Владимир Набоков, которые так никогда и не вернулись на родину, а также некоторые из самых малоподвижных художников, такие как американец Джозеф Корнелл, который никогда не путешествовал, но всегда мечтал об изгнании. Для них офф-модернистское мировоззрение было не только художественным кредо, но и образом жизни и миропониманием. Офф-модернисты выступают посредниками между модернистами и постмодернистами, доставляя исследователям определенные неудобства. Эксцентричное наречие «офф» понижает градус модности и избавляет от бремени определения кого-либо как пред- или постмодерниста. Если в начале XX века модернисты и авангардисты самоопределились, отказавшись от ностальгии по прошлому, в конце XX столетия размышление о ностальгии могло бы привести нас к переозначиванию критического модернизма и его темпоральной амбивалентности и культурных противоречий.
«Нет следа цивилизации, который не является одновременно следом варварства», – писал Вальтер Беньямин. Эти слова можно увидеть на надгробии писателя в Портбоу[119] в Испании, на приморском католическом кладбище, откуда открывается панорамный вид на Пиренеи[120]. На самом деле, это не надгробный памятник, а мемориал писателю, могила которого никак не подписана. Беньямин, немецкий еврейский беженец времен войны, который прожил последнее десятилетие своей жизни в добровольном изгнании во Франции, покончил жизнь самоубийством на франко-испанской границе в 1940 году, когда ему преградили путь в безопасные места. А ведь он когда-то иронически называл себя «последним европейцем», неспособным эмигрировать на обетованную землю (будь то Палестина или Соединенные Штаты).
«Почему вы интересуетесь Беньямином?» – спросил меня человек в местной торговой палате, когда я посетила Портбоу в 1995 году. «Он ведь не отсюда. А в городе есть много других интересных вещей». Действительно, Портбоу, оживленный каталонский приграничный городок с большим сообществом мигрантов из южной Испании, имеет мало общего с Беньямином. Эта непреодолимая граница, которую Беньямину так и не дали пересечь, теперь представляет собой старую таможенную лачугу, стенд «Кока-Колы» и несколько знаков на разных языках для новой безграничной Европы. Я прочитала надпись на мемориале на каталанском языке: «Вальтеру Беньямину, немецкому философу». (Эта надпись также переведена на немецкий язык.) Честно говоря, меня расстраивает, что Беньямин, который так и не был признан философом при жизни (конечно, не в нацистской же Германии), получил этот посмертный, ностальгический титул от каталонского и немецкого правительств. Почему хотя бы не «пишущий немецко-еврейский человек»[121], как его называла Ханна Арендт, или даже «европейский писатель»? Рядом с камнем находится незавершенный памятник писателю, развалины и спорная территория строительной площадки, финансирование которой является предметом споров между правительствами Германии, Испании и Каталонии. На данный момент он называется памятником европейским эмигрантам на всех трех языках, чтобы избежать международного конфликта. Работа Дани Каравана[122] представляет собой пассаж[123], излюбленную метафору Беньямина (как в Пассаже, торговых рядах XIX века, где он искал и находил значительную долю своей ностальгической тоски). Только этот чем-то напоминающий дымоход металлический короб похож скорее на лестницу к смерти или даже газовую камеру, а не на пространство для демонстрации городских сувениров и товаров. Находя этот образ излишне мрачным и, к сожалению, предсказуемым, я спускаюсь по лестнице печали к морю, где пепел Беньямина мог найти свое последнее пристанище. Здесь меня ожидает сюрприз.
Там внизу нет выхода. Но нет и тупика. Вместо этого я вижу вздымающиеся волны, белую пену, мерцающую в сумерках, и свое собственное жуткое отражение. В конце пассажа нет стены, что напоминает нам о руинах прошлого, но там есть отражающее стекло, экран для преходящей красоты, мирского сияния. Оммаж ностальгирующим личностям эпохи модерна.
Глава 3
Динозавр: ностальгия и популярная культура
Идея Беньямина о модернизме, пробуждающем доисторическое начало, имеет парадоксальные отголоски в американской популярной культуре. Один из них можно охарактеризовать как синдром парка Юрского периода, в котором самая современная наука используется для восстановления доисторического мира[124]. Техно-ностальгия абсолютно лишена саморефлексии; футуристическая и доисторическая одновременно, она кажется всеобъемлющей и неизменно избегает любых аспектов современной истории и локальных воспоминаний. Популярная культура, сделанная в Голливуде, упаковка для национальных мифов, которые Америка экспортирует за рубеж, вызывает ностальгию и предлагает своего рода транквилизатор; вместо тревожной амбивалентности и парадоксальной диалектики прошлого, настоящего и будущего она обеспечивает детальное восстановление облика вымерших существ и разрешение конфликтов. Американская популярная культура предпочитает увидеть техно-пастораль или техно-сказку вместо скорбной элегии. Тем не менее даже в истории техно-сказки попытка оживить прошлое превращается в фильм ужасов, где перипетии науки и прогресса едва ли ограничиваются иррациональными страхами. Парк Юрского периода становится ужасающей версией Райского сада, в который герой и героиня снова и снова возвращаются и добровольно его покидают.
Динозавры – идеальные животные для индустрии ностальгии, потому что их никто не помнит. Факт их вымирания является гарантией коммерческого успеха; он позволяет обеспечить тотальную реконструкцию и потенциал глобального экспорта. Никто не будет оскорблен неправильным изображением динозавра, даже активисты по защите прав животных. (В качестве предупреждения тираннозавр в парке Юрского периода сделал упреждающий удар и съел адвоката.) Динозавромания началась как американская национальная навязчивая идея; исследования природы и научные открытия были позже дополнены кинематографическими спецэффектами, которые слились воедино, чтобы воссоздать вымершее существо. Америка стала обетованной землей динозавров. Динозавр – единорог Америки, мифическое животное Нации Природы. У азиатов и европейцев были свой фольклор и свои драконы. У американцев есть свои научные сказки, которые часто связаны с любовью и смертью какого-то доисторического монстра. Красавица-блондинка обычно влюблена в зверя, а мужчина пытается покорить обоих. Палеонтология и археология ископаемых были параллелью классической археологии. Если люди эпохи Возрождения в Европе были заняты раскопками своего классического наследия, то возрождение Америки в конце XIX столетия (и, следовательно, начало американской всемирной славы) потребовало своего доисторического наследия, чтобы превзойти Европу в масштабе и возрасте.
«Парк Юрского периода» не является очевидным примером ностальгического кино, и такой выбор может показаться странным даже для самих американцев. Фильм ориентирован в основном на детей, которые, как известно, не ностальгируют. В нем нет ни прустовских моментов индивидуального стремления к обретению утраченных пространства и времени, ни тотального воссоздания в стиле Диснея какого-нибудь маленького городка с одетыми в одежду соответствующей эпохи подростками, целующимися на просторных задних сиденьях автомобилей 1950‐х годов. Фильм иллюстрирует иной тип ностальгии – не психологической, а мифологической, которая связана с героизированной американской национальной идентичностью. Эта мифологическая ностальгия имеет геополитические последствия, поскольку динозавр является созданием всемирной поп-культуры, экспортируемым по всему миру. То, что в Соединенных Штатах может показаться дорогой детской игрой, безобидной и понятной всем, поражает зрителей в других частях мира как образцовая постановка американского мифа – мифа о новом мире, который забыл свою историю и воссоздал предысторию совершенно нового типа.
«Парк Юрского периода» демонстрирует множество ностальгических существ и артефактов. Живое биологическое чудо возникло из янтарной окаменелости, фрагмента неосязаемого прошлого. «Qué lindo» – произносит испаноязычный менеджер мифической строительной площадки. «Как красиво» – эти слова остаются на испанском языке, и не переведены для гринго. На какое-то мгновение повседневный менеджмент на строительной площадке и мелочная озабоченность адвоката страховыми полисами прерываются для скоротечного прозрения. Крошечная полупрозрачная окаменелость с доисторическим насекомым увеличивается объективом камеры как видение таинственной красоты. Янтарная окаменелость – типичный сувенир XIX века, миниатюрный фрагмент меланхолической красоты, memento mori[125], вещица, которая найдет свое место в уютной домашней буржуазной коллекции времен старого мира. В культуре XIX столетия янтарная окаменелость была бы чем-то заветным сама по себе, объектом неутоленной тоски, напоминающим об одной из потерянных цивилизаций и границах познания в эпоху модерна.