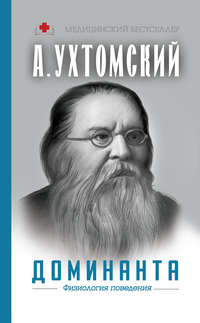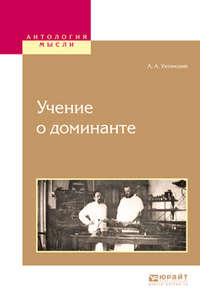полная версия
полная версияДоминанта

Алексей Ухтомский
Доминанта
Часть I
Доминанты жизни и творчества
Статьи разных лет
Можно ли признать чувствования удовольствия и страдания первичными и основными элементами душевной жизни?[1]
I
В высшей степени заманчиво свести всю психическую жизнь к одному элементу, из которого бы слагались различные ее явления, подобно тому, как все числа одного и того же ряда слагаются из одной и той же единицы. К тому же и стремление к отысканию такого элемента вполне законно. Этим стремлением жила человеческая мысль во все времена, а со времен Декарта оно провозглашено догматом всего последующего научного течения, которым мы живем до сих пор.
Однако заманчивость сведения видимого сложного явления к элементам его может послужить поводом к важным заблуждениям именно тогда, когда акт сведения совершается ранее, чем следует, т. е. когда он является не выводом из ряда фактов, но предвзятым метафизическим догматом. Конечно, тем более почвы для таких догматов, а следовательно – и заблуждений, чем сложнее явление, подвергаемое разложению. Всего более опасности в этом смысле является психологу, исследующему начало и конец всякого знания – самосознание человека. До сих пор его дело находится еще в таком положении, что истинно научное значение имеет скорее развенчивание ранее предполагавшихся психических единиц на степень явлений, могущих быть подвергнутыми лишь простому описанию, чем прямые попытки к действительному сведению явлений к их общей единице. Поэтому, с одной стороны, наиболее проницательные умы ознаменовали себя в истории науки большею частию радикальным различением нескольких психических начал (Аристотель, Декарт, Кант, Шопенгауэр), с другой же – преобладание до сих пор лежит на стороне опытной, а не механической психологии.
Опытная психология, имеющая своей задачей «представить на основании наблюдения все составные части душевной жизни и общие формы их сочетания»[2], различает обыкновенно три потока (взаимно простых) в этой жизни: потоки познания, чувствования и воли (Лотце, Гёфдинг, Вундт, Бэн и др.). Стремление к установлению единства в душевной жизни удовлетворяется пока лишь опытным фактом единства сознания, но, помимо этого, так сказать, концентрирования трех потоков в одном факте, между ними фактически не найдено никакого существенного тождества.
Опыт показывает, что непосредственное сознание вполне удовлетворяется таким трехчастным делением душевной жизни и, мало того, желая иногда всю сознательную жизнь воплотить в одном из этих потоков, постоянно и принудительно вносит туда элементы двух других. Когда геометр занимается математической проблемой, легко можно заметить, – кроме чистого отвлеченного мышления в его деятельности как таковой есть волевой элемент, например желание скорей и как можно проще прийти к ожидаемому результату, и, наконец, элемент чувствования, притом далеко не второстепенный, когда, например, на основании его он бессознательно стремится придать математическому языку изящество, которое Фулье так прекрасно называет «геометрическим красноречием».
Если я желаю, то желаю чего-нибудь, и желаю именно этого более или менее известного «чего-нибудь» потому, что оно мне приятно.
«Ясно видно, – говорит Гёфдинг, – единство душевной жизни, если вспомнить, какое значение имеет воспоминание для чувственного восприятия и мышления, как тесно связано чувство с волею и как глубоко – глубже всякого сочетания представлений – чувство связано с представлением»[3]. Однако иногда можно наблюдать, как спекулятивная мысль пытается еще упростить такое представление душевной жизни в опытной психологии и, стараясь остаться все-таки на почве этой последней, начинает сводить то волю[4] на сочетание познания и чувствования, то познание на волю и чувствование и т. д.
Так как, несомненно, во всех этих попытках не последнюю роль играет спекулятивный элемент, то и им также мы имеем право противопоставить соображение на спекулятивной почве. Если, с одной стороны, при исследовании воспитания воли приходится говорить собственно о воспитании чувствования и познания, относительно которых воля не более как зависимая переменная функция, то, с другой – она очевидно аналитически не выводится из их сочетания, но если дано представление А и соединенное с ним в данный момент чувствование В, то, чтобы узнать о существовании воли, надо еще, помимо них, опять обратиться к наблюдению, подобно тому, как в известном кантовском примере из чисел 7 и 5 нельзя без внешнего основания вывести их сумму 12. Вооружившись такой формулой, можно всегда показать практическую самостоятельность каждого из трех потоков душевной жизни. Однако эту самостоятельность сравнительно легко заметить в научной абстракции, но иногда трудно в обыденном самонаблюдении, потому что сию минуту уловленное в моем сознании ценное, жизненное представление так сильно связано с элементами чувствования и воли, что помимо научных целей сознанию действительно нет основания видеть здесь три комбинированных акта, а не единый душевный акт.
II
Обратим внимание в душевной жизни на поток чувствования.
Если бы потребовалось сказать, какие душевные состояния мы относим к потоку чувствования, то, говоря вообще, следует указать состояния удовольствия и неудовольствия. Всякие другие состояния, которыми бы хотели охарактеризовать конкретное чувствование, представили бы лишь приближение к состояниям удовольствия и неудовольствия и вместе с тем сочетание чувствования с посторонними элементами душевной жизни[5]. Все «чувствования» в узком смысле, т. е. например любовь, ненависть и т. п., сводятся в конце концов к удовольствию и страданию плюс более или менее сильный элемент познания. Это хорошо видно, например, в «Критике отвлеченных начал» Вл. Соловьева, где переход от чувствований удовольствия и страдания как норм жизни к чувствованию (долга) уважения <…>, симпатии и т. д. характеризуется внесением все большего и большего количества познавательного элемента. <…>
Таким образом, можно сказать, что «чувствованиями мы называем исключительно состояния удовольствия и неудовольствия в отличие от ощущений как безразличных восприятий известного содержания» (Лотце)[6]. «Учение о чувствовании, – говорит Горвич, – самое темное из всех психологических учений. Эта темнота отчасти объясняется естественной трудностью предмета. Благодаря этому чувствование так упорно ускользает от научного исследования, ибо прямое свойство чувствования заключается в том, что оно столь полно требует для себя сознания, что тут уже совсем нет места теоретическому познанию».
Очень знаменательно, что таким образом уже с самого начала речь о чувствовании приходится вести на более или менее субъективной почве собственных воспоминаний. Единственная возможность придать хотя некоторую объективность своим суждениям о чувствовании покоится в конце концов на дефиниции, что тождественные внешние проявления жизни людей служат следствием тождественных внутренних состояний; эта дефиниция дает нам возможность судить по приближению о чувствовании, которое испытывается другими, и здесь является почва для «учения» о чувствовании.[7]
Остановимся несколько подробнее на субъективности чувствования. Субъективность есть всеобщий и отличительный признак чувствования. Это можно видеть из обратного, например, обратившись к истории. Здесь, наряду с областью науки, с областью прогресса, сравнения, спора, сомнения, мы все время замечаем еще другой скрытый фактор, этот фактор – субъективная жизнь. Не много проницательности надо, чтобы понять великое значение субъекта в истории. И если мы действительно вникнем в человеческую индивидуальность, то скоро согласимся, что «le moi d’un homme est plus vaste et plus profond encore que le moi d’un peuple»[8] (В. Гюго). Мы видим, что индивидуальности дают личность народу, а не народ индивидуальности, даже самая ничтожная «бумага» – индивидуальность, по-видимому живущая лишь тем, что дано ей средой, и то, насколько она все-таки индивидуальность, – имеет в себе нечто особенное, своеобразное, следовательно, не исчерпывается общим «народным Я», и в то же время это последнее «народное Я» не исчерпывает ее. Я индивидуальное никогда не перельется ни в Я народное и ни во что другое. Но что же это такое, всегда остающееся в субъекте? Иными словами, что такое то, что сохраняет субъекта как субъекта? Познание? Но мы постоянно видим, как гениальнейшие научные произведения проходят и забываются, хотя личность автора, быть может, останется бессмертною в памяти потомства. Итак, основа субъективной жизни не в познании.
Воля? Но биограф занимается действиями великого человека лишь насколько в них отразилась его личность, следовательно, действия сами по себе еще не служат основой личности.
Итак, основа личности, основа субъективной жизни – в чувстве. Великие индивидуальности Гомер, Иов, Эсхил, Шекспир жили и будут жить, притом не в ущерб один другому, не умаляя друг друга, и именно потому, что они оставили людям чувство, передали в нем потомству великую загадку – свою личность, субъективную жизнь, а субъективная жизнь естественно чужда прогрессу, а потому бессмертна. Чувство есть носительница субъективной жизни, оно-то не дает «индивидуальной личности» исчезнуть в «личности народа» или человечества, но только и исключительно потому, что само не может вылиться из «индивидуальной личности» и сделаться объективным достоянием всех.
Всеобщий и отличительный признак чувствования – это его субъективность.
Тот несомненный факт, что чувствование иногда служит путем, который приводит вдохновенных людей к открытиям великой и всеобщей важности, конечно, ровно ничего не говорит против исключительной субъективности чувствования. Весь элемент чувствования в таких случаях может и должен, ввиду общепонятности выводов, быть заменен объективной выкладкой представлений. Идея анализа бесконечно малых в том виде, как она была предвосхищена умом Лейбница, конечно, не могла быть понята всяким другим субъектом, пока субъективно-интуитивный элемент в мысли великого философа не был заменен рядом связей теоретических представлений. Надо помнить, что суждение о чувствовании другого (а это единственный способ для хотя бы приблизительного объективного учения о чувствовании) всегда основывается только на воспоминании о собственных чувствованиях и поэтому никогда, в сущности, не освобождается от субъективной мерки. Полная невозможность перевести субъективную жизнь в общее достояние, т. е. перевести жизнь чувствования на объективные представления, прекрасно выражено у Ги де Мопассана в его «Одиночестве»: «Я говорю с тобой, – говорит он, – ты слушаешь меня, и мы оба одиноки, мы идем бок о бок, но мы одиноки… И я напрасно стремлюсь отдаться весь, открыть все двери моей души, я не могу передать всего себя. Я сохраняю в глубине, в самой глубине тот тайный уголок моего Я, куда никто не проникает. Никто не может открыть его, проникнуть в него, потому что никто ни на кого не похож, потому что никто не понимает никого».
Важность и самостоятельность чувствования в отношении его жизненной ценности не подлежит, конечно, никакому сомнению. Можно сказать, что вся наша деятельность течет в зависимости от стремления к удовольствию и отвращения к страданию. Это оспаривается обыкновенно из двух мотивов: этического и спекулятивно-философского. Первый мотив основывается на древнем делении чувствований на низшие и высшие, причем этическому сознанию кажется оскорбительным выводить оба ряда чувствований из одного начала; удовольствие и страдание подводились под разряд низших чувствований, и потому предписывалось всячески избегать их как мотивов деятельности. Второй мотив основывается на гордом стремлении спекулятивных философов эмансипировать мышление (т. е. деятельность по преимуществу) от низших будто бы факторов, каковы для них были чувствования. Общий ответ обоим оспариваниям может заключаться в указании на то, что ни Сакья Муни, ни гегелевская Абсолютная Идея на самых высших стадиях развития не свободны от элементов чувствования; скорей, напротив, Сакья Муни тем и велик, что указывал людям, где причина страдания и как надо избегать его, а гегелевская Идея если привлекает внимание, то только тем, что пленяет своей величавой красотой и стройностью.
Хотя уже и Фихте, и Шеллинг[9] под влиянием жизни нисходили с высот умозрения и тогда отдавали должное чувствованию, но во всей своей жизненной ценности оно является в системах Шопенгауэра и Гартмана, с одной стороны, и Лотце – с другой. Вообще с того времени, как философия остановилась на идее «ценности жизни» и увидела в ней собственно свою проблему, чувствованию отдано подобающее и очень важное место.
Обращаясь к истории, к обыденной жизни, мы постоянно убеждаемся в великом значении чувствования. С одной стороны, истины, коими жили народы, расшатанные под ударами холодной критической мысли, снова утверждаются чувствованием, когда сознание начинает искать отдохновения от мучительного блуждания в неизвестности. С другой – старинные ложные формы жизни общества разрушаются во имя чувствования же, когда развившееся сознание начинает возмущаться этими формами, и т. д. Все мистическое и идеальное имеет свое оправдание и силу в чувствовании. История науки показывает нам прогрессивный переход от телеологии к механизму при постоянном протесте и отпоре чувствования. «Но даже если бы наука объяснила всю вселенную по своим законам, – говорит Гёфдинг, – она все-таки не могла бы запретить чувству давать подкладку всей системе причин и действий в виде высшей, непонятной для нас телеологии. Последние вопросы в области жизни, вопросы о цельности и значении действительности и жизни, решаются в конце концов по голосу чувств».
Власть чувствования над человеком всеобща и всесильна. Это особенно хорошо понимает субъект, привыкший к рабскому удовлетворению какой-нибудь своей наклонности. Если он вздумает воспротивиться когда-нибудь требованиям наклонности, въевшейся в его существо, он почувствует страшную пустоту, как будто вместе с отвергнутой наклонностью им отвергнут всякий интерес к жизни. Поэтому, употребляя шопенгауэровскую терминологию, можно сказать, что в чувстве – сильнейшее условие для «утверждения или отрицания воли к жизни».
Становясь мотивом действий чувствования, ум не допускает ни доводов рассудка, ни проявлений того таинственного фактора, который обыкновенно называется «инстинктом самосохранения». Конечно, тот несчастный человек, который ждет удовлетворения своего стремления к счастью и удовольствию в разврате, прекрасно понимает, что после, когда пройдут его силы и он растратит свой основной капитал, ему придется влачить жалкую, бессмысленную жизнь с расслабленной головой и телом, без точки опоры внутри, «без идеала и без возможности продолжения порока» (А. Дюма-отец). И между тем он продолжает свои разрушающие удовольствия, безразлично смотря в минуту наслаждения на доводы и на будущее. «Не думай низложить беса возражениями и доказательствами, – говорил Иоанн Синайский, – ибо он имеет многие убедительные оправдания как воюющий против нас с помощью нашего естества».
III
Мы видели уже, что воле следует дать самостоятельное место в ряду психических элементов чувствования и познания. Воля, или – конкретнее – желание, имеет ближайшую связь с чувствованием, и чувствование необходимо для перехода познания в желание, по сравнению Горвича, как диастаз для перехода крахмала в сахар. Но в то же время очевидно, что желание не есть нечто производное из чувствования, но существует наряду с ним.
Когда Цезарь подошел к Рубикону, – известный ряд чувствований побуждал его перейти реку; другой ряд, напротив, говорил за то, чтобы отступить обратно в Галлию. Представлять этот психический процесс так, что оба ряда чувствований столкнулись и сильнейший повлек Цезаря за Рубикон, это похоже на объяснение чувствований у старых гербартианцев, где они являлись чем-то вроде искры или грома от механического столкновения представлений.
Еще раз повторяем, что во всех подобных попытках – сведения то воли на чувство, то чувства на волю и т. д. – не второстепенную роль играет спекулятивный элемент, и несоответствие построенных на нем выводов действительности обнаружится, как скоро мы обратимся к опыту.
Опыт покажет нам, что «активная сторона» жизни, или «начало самопроизвольного (автоматического) движения» (так называемая физиологическая воля), лежит еще до сознания (Гёфдинг). Стоит вспомнить, например, движение зародыша, бессознательный позыв новорожденных и детей к движению, наконец, движения некоторых частей тела взрослого человека, например известные сокращения соответствующих органов при родах и т. п., принимающие впоследствии в наших глазах отпечаток телеологии. Также и в жизни сознания, в самых его элементарных формах «деятельность представляет главное свойство: всегда нужно предполагать силу, сдерживающую разнородные элементы сознания и соединяющую их в содержание одного и того же сознания» (Гёфдинг). Кант предполагал такую силу, «соединяющую одно к другому различные представления и схватывающую их множественность в едином познании»; эту силу, на которую «прежде всего надо обратить внимание при исследовании первого основания нашего познания», Кант называет «синтезом» и предполагает начало его заложенным в душу прежде всякого сознания, когда говорит, что «синтез есть действие слепой, но неизбежной функции души, помимо которой мы вовсе не имели бы познания, но которую мы сознаем редко, хотя бы только один раз за всю жизнь». Таким образом, еще раз очевидно, что воле как собственно активному началу жизни мы должны дать вполне самостоятельное место. Но здесь является и опасность в той заманчивости, с которой хочется поднять волю не только на степень самостоятельного психического элемента наряду с чувствованием и познанием, но и дать ей силу основного душевного фактора, поглощающего в себя, по крайней мере, чувствование (как у Шопенгауэра) или же, кроме того, и познание (как у Гартмана)[10].
Мы удержимся, однако, сделать этот шаг в область метафизики и заметим только, что воля в широком смысле (а в этом именно смысле надо дать ей самостоятельность) не может исчерпывать всех элементов душевной жизни. Это прежде всего надо сказать относительно самосознания. Невозможность объяснить индивидуальность исключительно на волевой почве повела Шопенгауэра к учению о чуждости и ложности «индивидуальной воли». «Если субъект обратит свой взор внутрь себя, – говорит Шопенгауэр, – то он увидит волю, которая составляет основу его существа, однако для познающего субъекта это все-таки не есть самопознание в собственном смысле, но познание чего-то другого, отличного от него самого… Субъект познает волю лишь как внешнюю вещь – в ее обнаружении, таким образом – в отдельных актах и прочих аффекциях, которые разумеются под именами желаний, аффектов, страстей и чувствований; следовательно, он узнает ее постоянно как явление. Самого же себя познающий субъект из этих оснований узнать не может, потому что в нем нечего познавать, как только то, что он есть познающее, но познающее еще не значит – известное. Субъект есть явление, не имеющее никакого другого обнаружения, кроме познавания: следовательно, ничего другого и нельзя в нем узнать». Вопреки этому вполне последовательному рассуждению Шо пенгауэра мы видим, однако, что в действительности субъект все-таки находит в себе нечто задерживающее на себе его интерес, и мышление не в пример более, чем все вне его. Нетрудно видеть, что это – чувствование, которое одно дает нам право говорить сначала: «это мое», а потом: «это Я, а это не Я»[11].
<…> Поэтому уже для того, чтобы понять факт самосознания, надо дать чувствованию самостоятельное место относительно воли.
IV
Интерес сознания прежде всего останавливается на внешних предметах, которые совершенно безучастны к его субъективной жизни. Здесь впервые рядом с сознанием чего-то субъективного пред сознанием возникает представление чего-то независимого от него – объективного. Таким образом, с этого момента в душу вносится двойственность: чувствованию противополагается знание. Человеческое сознание, насколько мы наблюдаем его в практике, полагает между знанием и чувствованием, между объективною и субъективною жизнью в собственном смысле, – противоположность до диаметральности.
Как показывает обыденный опыт, с одной стороны, и история – с другой, индивидуальное человеческое сознание во все времена не удовлетворялось и не удовлетворяется одиночным блужданием, обыденным объяснением всего из себя и через себя, но всегда искало и ищет твердых объективных истин, на которые оно могло бы положиться как на основания, заложенные раз навсегда. С другой стороны, оно всегда находило и находит глубокое успокоение в том убеждении, что истина существует и что, если оно, индивидуальное сознание, еще не достигло своего идеала – познания истины, то это лишь следствие случайных, чисто субъективных ее причин, реальная же истина не теряет от этого своей действительности. <…> Таким образом, своему «случайному», обыденному существованию, задающему ряд вопросов, но не разрешающему их, сознание противополагает нечто непреложное, необходимое (т. е. независимое от его собственной переменчивости), к которому оно и стремится.
С одной стороны, на основании открытий точных наук (математики, физиологии), с другой – новейшей критики познания, современной психологии удалось вытянуть все содержание познания в один непрерывный, постепенно развивающийся поток с единственным началом в ощущении, что как нельзя более подходит под общий дух так называемой гипотезы развития, господствующей в современной науке.
Но может показаться, что вместе с этим познание нисходит со своей неприступной высоты, какая приписывалась ему до сих пор, и входит в более близкое отношение к субъективному миру человека – к чувствованию. Кажется – можно продолжить развивающийся поток далее по нисходящей прогрессии и предположить корни и зародыши познания еще в области чувствования.
Увлечение подобными попытками есть везде, где дело касается гипотезы развития: стоит вспомнить выведение философии из религии и религии из искусства у Гегеля. <…>
По-видимому, в пользу попытки сведения познания на чувствование говорит, между прочим, тот наблюдаемый факт, что чем ниже мы спускаемся в ряду ступеней познания, тем более роли играет чувствование. Точкой соприкосновения области познания с областью чувствования можно поэтому предположить ощущение. Ощущение – самый первичный элемент познания, поэтому в нем-то надо решить, сводится оно на чувствование или нет. Горвич отвечает на наш вопрос утвердительно, по его мнению, «ощущение есть чувствование» (причем под чувствованием он разумеет, как мы видели, чувствование удовольствия и страдания. Его определение в более полном виде следующее: «чувствование есть прямое выражение чувства самосохранения души, которая, гармонируя с условиями здоровья, чувствует приятное, в противном случае – неприятное»). Обосновывает он это, во-первых, индуктивно и следующим образом: «Положим, – говорит он, – я неожиданно получаю удар; имею ли я при этом сначала ощущение (т. е. нечто безразличное), а потом, как уже его продукт, – боль и восприятие? Нет, но сначала боль, потом восприятие». Так же, если капнуть на руку расплавленным сургучом, то, конечно, сначала будет боль, потом восприятие. Отсюда уже видно, что самое начало нашего сообщения с внешним миром совпадает с чувствованием.
Далее Горвич указывает, что для всех ощущений существует такое общее «сопутствующее явление», на основании которого можно сделать сравнение различных рядов ощущений. «Явление» это – различная сложность ощущений для различных органов чувств. Сравнение, сделанное на этом основании, приводит к результату, что «между объективностью и сложностью чувства существует полный строгий параллелизм»[12].
Так, математическое пространственно-временное воззрение с его едва заметными началами чувствований характеризуется как высшей объективностью, так равно и наибольшей сложностью. Таким образом, сравнение образов чувств и свойств ощущений дает три строго пропорциональных ряда: 1) убывающая предметность, 2) повышающаяся склонность к чувствованию, 3) убывающая сложность. Это, конечно, не случайность и может быть с физиологической точки зрения объяснено тем, что «ощущение», по мере своего усложнения, утрачивает склонность к чувствованиям и через это впервые становится способным служить посредством к «объективному знанию». Итак, в чувствовании мы имеем ранний элементарный фактор чувственного восприятия, «собственный базис чувственного восприятия и представления», и чувство является фактором, управляющим познанием.