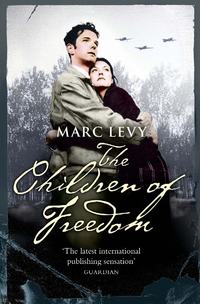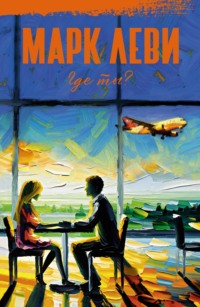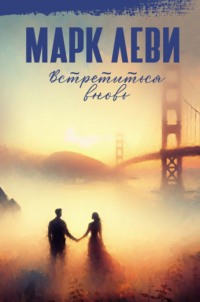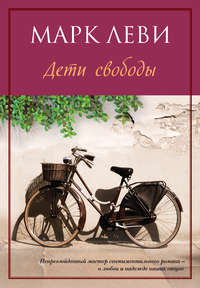Полная версия
Влюбленный призрак
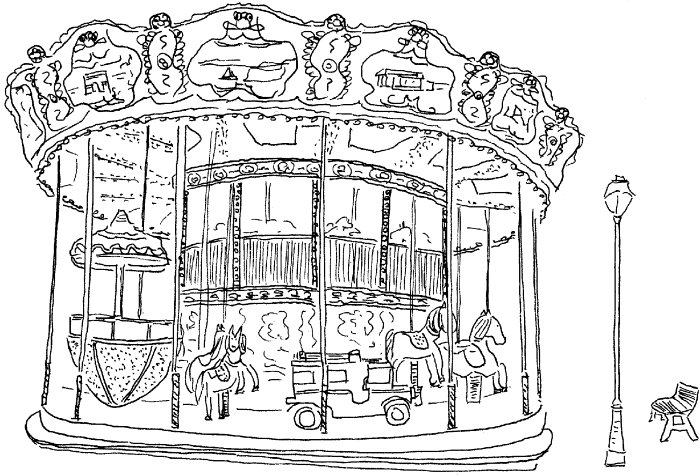
4
Тома́, не открывая глаз, стал ощупью искать звонящий будильник, потом, борясь со сном, сообразил, что его разбудил телефонный звонок. Он вяло потянулся к смартфону и посмотрел на экран. Нажимать отбой было бесполезно, мать не успокоится, пока он не ответит.
Он прижал телефон к уху, и туда хлынул поток слов. Материнский голос действовал на него как успокоительное, оставалось слушать ее в полусне, иногда издавая невнятное бурчание.
– Тебе удалось отдохнуть?
– Ммм…
– Я чувствую себя виноватой в том, что тебе стало так плохо после курения. Пожалуй, я слишком легкомысленно к этому отнеслась. У каждого индивидуальная реакция. У твоего отца была мерзкая привычка смеяться над моей аллергией, он утверждал, что она существует только у меня в голове. По-моему, не важно, где это происходит, в голове или в крови, важен только результат, правда?
– Ммм…
– Вот я, к примеру, реагирую на чеснок. Если в блюдо попадет хоть крохотная частичка, я неминуемо проведу бессонную ночь – мой желудок будет бунтовать.
– Ммм…
– Ты отвратительно выглядел, я так казнила себя за это! Надеюсь, все уже прошло, а если нет, то остаются старые добрые средства от похмелья, самое лучшее – томатный сок после пробуждения, он сразу поставит тебя на ноги, лимонный тоже годится. А вообще-то, невзирая на настроение, ты был настоящий красавчик.
– Ммм…
– Сегодня вечером мы с твоей крестной снова придем послушать тебя, я постараюсь, чтобы она тебя не отвлекала; не переживай, в какой бы ряд ты нас ни посадил, нас все устроит. Не забудь оставить для нас билеты в кассе – две штуки, разумеется!
– Ммм…
– Что-то я заговариваюсь, я сказала, что со мной будет Колетт, а на самом деле это я буду с ней. Мы заглянем к тебе в гримерную. Знаешь, я тобой бесконечно горжусь, мне не хватает слов, чтобы это выразить. Который сейчас час, всего восемь? Боже, какая рань!
– Да.
– Тогда поспи еще, мама тебя любит. До вечера, мой милый.
Тома́ уронил телефон на ковер, разлепил глаза, обвел взглядом спальню. К его облегчению, было тихо, в окно струился золотистый утренний свет. Долгожданное одиночество обострило его чувства.
Раз мать попросила его оставить ей места, значит, она не приходила слушать его накануне, а раз не приходила, то, значит, не выходящего у него из головы вечера попросту не было. Ни концерта, ни ошибки при исполнении, ни Софи. И, главное, никакого призрака! Осознав это, Тома́ испытал приступ ликования. Сев в постели, он для пущей верности позвал отца:
– Папа! Папа, ты здесь? Если прячешься, чтобы меня напугать, это не смешно.
В памяти всплыло странное воспоминание. Игра, в которую они с отцом играли с раннего детства, заключалась как раз в том, чтобы пугать друг друга, прячась и неожиданно выскакивая из укрытия. Это началось, когда ему было лет шесть, и с тех пор не прекращалось. Они прятались друг от друга за деревом у школьных ворот, в факультетском вестибюле, в подъезде, в кабине лифта, за кулисами концертного зала, даже в больнице – там Тома́ с ведома отцовской секретарши прятался у него в кабинете. Для любимой шутки годилось любое место, за исключением собственно операционной и концертной сцены.
– Папа? – еще раз позвал Тома́, резко открывая шкаф, где не оказалось ничего, кроме чемодана и плаща.
Убедившись, что он совершенно один, Тома́ включил кофеварку и уселся в кухонном уголке, чтобы позавтракать. На душе у него было мутновато.
Позже, стоя под душем, Тома́ пришел к мысли, что должен с кем-то поговорить, поделиться своим сном, чтобы окончательно его из себя исторгнуть.
Добрым его приятелем, почти другом, был психиатр и меломан Сильвен. Тома́ часто приглашал его к себе на репетиции, поэтому теперь вполне мог попросить об услуге. Он позвонил Сильвену и предложил вместе пообедать. Сильвен, не будь дурак, ответил, что голос Тома́ свидетельствует о желании поговорить, а не просто съесть в его обществе бифштекс с жареной картошкой. Ресторан представлялся ему не самым лучшим местом для облегчения души. Уж не сердечные ли дела его тревожат, осведомился друг.
– Как тебе известно, психиатр – не советчик по части нежных чувств, – напомнил он.
– Тут другое, – заверил его Тома́. – Но ты прав, нам больше подойдет местечко поспокойнее. Я собрался рассказать тебе одну совершенно сумасшедшую историю.
Сильвену стало очень любопытно, и он назначил Тома́ встречу у себя в кабинете ближе к полудню.
Тома́ предпочел устроиться в кресле, а не на кушетке.
– Даже если это не настоящая консультация, ты все равно будешь соблюдать профессиональную тайну?
– Деликатность – свойство характера, старина. Обещаю, наш разговор не выйдет за пределы этих стен. Ну а теперь расскажи мне, что тебя сюда привело, иначе я не сумею тебе помочь.
И Тома́ обстоятельно поведал о том, что пережил… или о том, что считал пережитым.
Врач слушал его целый час не перебивая, просто делая записи. Когда Тома́ умолк, он попросил его своими словами сформулировать еще не заданный вопрос, заставивший так срочно обратиться за помощью.
– То, что я сейчас тебе рассказал, – полная бессмыслица, при этом все кажется очень реальным. Как ты думаешь, мог один несчастный косяк так сильно повредить мои нейроны, превратить меня чуть ли не в психа?
– Никогда не произноси этого слова на приеме у психиатра, на него у нас наложено строгое табу. Никаких психов не существует, просто у каждого собственное восприятие реальности, а реальность, знаешь ты об этом или нет, субъективна. Когда ты играешь на фортепьяно перед полным залом, твое сознание пребывает в другом месте. Твой дух уносится вдаль, как во сне. При пробуждении наш сон еще не полностью рассеялся, мы пытаемся отделить действительное от иллюзорного, но сон еще какое-то время нас не отпускает…
– Какой сегодня день?
– Среда.
– Выходит, вчерашний день не был сном!
– У каждого дня есть «вчера» и «завтра», это неоспоримый факт, дружище. Но ты мог прожить этот день в подобии гипноза. Так со многими бывает, иногда это продолжается лишь короткое мгновение – как загадочный эффект дежавю, – а иногда затягивается. Бывает достаточно небольшого эмоционального потрясения. Наша мозговая химия обладает огромными ресурсами, о которых мы даже не подозреваем.
– Ты считаешь, что психотропное средство может оказывать настолько длительное воздействие?
– Смотря какое. Твою проблему вызвал не выкуренный косяк, как бы силен он ни был. Виноват гораздо более сильный и стойкий препарат – иудео-христианское чувство собственной греховности.
– Ммм…
– Скажи, отец тебя упрекал?
Тома́ утвердительно кивнул.
– Так я и знал. В чем?
– Точно сказать не могу. В том, что меня никогда не волновало, счастлив ли он, так мне кажется…
– Видишь, достаточно об этом заговорить – и воспоминание начинает рассеиваться. Кто еще навещал тебя в этом сне? К отцовской фигуре мы еще вернемся.
– Говорю же, ко мне приходила Софи.
– Софи, с которой ты расстался, не сумев построить настоящие отношения?
– Да, примерно так… – пролепетал Тома́.
– А она хотела полноценных отношений?
Новый утвердительный кивок.
– Кто еще?
– Моя мать и крестная.
– Две безгранично любящие тебя женщины, которых ты ни за что не оттолкнул бы, с которыми ты никогда не соперничал, не то что со своим отцом.
– Не улавливаю связи.
– Зато я улавливаю. Это все, больше никто?
– Больше никто, не считая уличного прохожего, несшего какую-то дичь, вызвавшую у моего отца смех. Папаша на кого-то намекнул, оговорившись, что я слишком молод, чтобы его знать.
– Молод – не молод, но ты сам видишь, с какой великолепной ловкостью ты воспользовался этим безликим прохожим, чтобы вернуться к детским травмам. Он воплощает невнимание родителей к тому, что им говорят дети. Полагаю, картина тебе ясна. Тебе стало лучше?
– Может быть. Но остается кое-какое сомнение…
– Тогда еще один вопрос, чтобы ты полностью ожил: ты уверен, что всех назвал, никого не упустил?
– Может, дирижера?
– Дирижер – воплощение авторитетной фигуры, причем не любой, а только того, кто способен оценить и одобрить твое исполнение. Я хорошо помню наши школьные годы и твои проблемы с авторитетами. Мы приближаемся к цели, но нам еще кое-кого не хватает, и ты неспроста не спешишь его называть…
– Откровенно говоря, Сильвен, я не знаю, кто бы это мог быть.
– Неудивительно – всем нам трудно анализировать самих себя. Напрягись.
– Марсель?
– Он самый, Марсель, осветитель. Человек, зажигающий и гасящий свет, с его присказкой «поверь мне».
– При чем тут Марсель?
– Марсель – это твоя совесть. Он – твое Я и Сверх-Я, находящиеся в постоянном конфликте. Этот кошмар, кажущийся тебе таким реальным, не случайно разворачивается в годовщину смерти отца, это напоминание твоей совести, нашептывающей: «Малыш Тома́, ты еще не перестал оплакивать отца, и даже если Марсель говорит тебе “поверь”, Сверх-Марсель советует этому не верить, потому что впереди еще долгий путь».
– Все это мне говорит Марсель?
– Он самый, – важно подтвердил психиатр.
– Раз ты утверждаешь, что это он, я тебе верю.
– Вот ты и замыкаешь петлю. Ты веришь мне, веришь Марселю, веришь всем, но сейчас для тебя главное – поверить в себя, согласиться, что цель появления отца – не защитить тебя, а заставить принять мысль, что ты смертен, а главное, перестать бояться связи с какой-нибудь другой Софи. Знаешь, я был бы рад провести в твоем обществе весь день, но меня ждут другие пациенты, и их случаи куда труднее твоего. Хорошо повеселись сегодня вечером, ты уже не сфальшивишь, твоя мать будет на седьмом небе, тебя уже не станет преследовать ни Софи, ни призрак отца.
– Я что-то тебе должен? – спросил Тома́, вставая.
– Как-нибудь угостишь меня обедом. Ну а уж если сможешь раздобыть билетики на Верди в Опера Гарнье в конце месяца, то я по гроб жизни останусь твоим должником.
Сильвен проводил Тома́ до двери своего кабинета, похлопывая его по плечу и уверяя, что уж теперь-то все точно придет в норму, если уже не пришло.
Выйдя на улицу, Тома́ почувствовал, что ему легче дышится. Чтобы побороть остатки сомнений, он достал мобильный телефон и позвонил своей бывшей возлюбленной.
– Тома́? – удивилась Софи.
– Прости, не хочу тебя беспокоить, особенно если ты не одна, но мне срочно нужно задать тебе один вопрос, я тебя не задержу. Ты приходила ко мне в гримерную вчера вечером, после концерта? Никак не пойму, во сне это было или на самом деле! Я склоняюсь к тому, что это был сон, но ты выглядела очень реально, попросту очаровательно, хотя вела настолько нереальные речи, что, проснувшись, я не знал, что подумать. Твой приход не стал главным гвоздем программы этого сюрреалистического дня, но точно добавил в него странности, вот я и решил попробовать устранить сомнения. Ты меня понимаешь?
Не слыша ответа, Тома́ испугался, что она повесила трубку.
– Софи?
– Я слушаю, – прошептала она. – Знаешь, что, Тома́? Возможно, я ужасно сглупила, отпустив тебя, надо было проявить терпение, – сколько еще мне попадется на пути таких сумасшедших гениев, как ты? Я так и не решила, хорошо это для меня или плохо.
На этот раз она действительно повесила трубку.
Тома́ спохватился, что она не ответила на его вопрос. Возможно, он слишком неуклюже его сформулировал.
Шагая дальше, он решил, что лучше обо всем этом не думать, выбросить из головы этот гипнотический день, как назвал его Сильвен, и сосредоточиться на вечернем концерте.
Ему приглянулась залитая солнцем терраса ресторана «Дё Маго», он сел за столик и заказал салат.
Официант отправился на кухню, а Тома́ тем временем отлучился к соседнему киоску купить газету.
Вернувшись за столик, он поблагодарил соседнюю пару, согласившуюся покараулить его куртку и портфель.
Пока он тянул пиво, за спиной у него тихо прозвучало:
– Какой же ерунды способен наплести психиатр! Если твоя совесть такая же пузатая, как этот Марсель, то представляю, насколько у тебя тяжелые мысли! Лучше выбрось из головы все эти его Я и Сверх-Я!
Тома́ не стал отвечать отцу, он оплатил счет, накинул куртку, забрал газету и перешел через бульвар Сен-Жермен к стоянке такси. Сев в «шкоду», он попросил водителя отвезти его в зал Плейель.
На улице Бонапарт справа от водителя появился Раймон. Повернувшись к сыну, он сказал:
– Во-первых, мы с тобой никогда не соперничали, во‑вторых, в школе у тебя не было никаких проблем с авторитетами. Кто, как не я, просиживал штаны на родительских собраниях?
– Не ты, а мама, – возразил Тома́.
– Послушай, какие еще детские травмы? Почему тогда не вывихи юности? Давай я лучше поведаю тебе о струпьях старости, вот это будет рассказ! Недаром я занимался таким осязаемым ремеслом, как хирургия, операция не терпит субъективности, здесь или-или: резать или не резать. Потом зашиваешь – и дело сделано.
Тома́ стал напевать себе под нос, глядя в окно, как мальчишка, не желающий слушать чужое занудство.
– Хотите, включу радио? – спросил озадаченный водитель.
– Нет, не нужно, – отозвался Тома́, – сейчас мне лучше подойдет тишина.
– Ты это мне? – спросил отец.
– Кому же еще? Ты пропустил мимо ушей объяснение Сильвена, что я все еще по тебе скорблю. А уж когда ты толкуешь о соперничестве… Твои слова о психиатрах звучат жалко.
– У вас проблемы с психикой? – испуганно спросил водитель.
– Видишь, что ты устраиваешь! – рыкнул Тома́ на отца.
– Ничего я не устраиваю, вы сами ко мне обращаетесь! – возмутился таксист.
– Кто кого звал сегодня утром в квартире: «Папа, папа»? Я притворился невидимкой, чтобы дать тебе поспать. Тебя разбудила мать, а не я.
– Разбудила – и спасла от кошмара. Я думал, ему пришел конец, но где там…
– Мы как раз на набережной, хотите, поедем в больницу Помпиду? – предложил таксист. – Десять минут – и мы будем там, благо пробок почти нет.
– Благодарю вас, в больницу мне ни к чему.
– Знаете, по-моему, вам не очень хорошо, как хотите, но только чтобы без припадков в моем такси!
– Прошу прощения, просто я разучиваю текст для роли в пьесе.
– Тогда другое дело! – Таксист облегченно перевел дух. – Что за пьеса? Моя жена обожает театр.
– «Папаша-гипнотизер», непростая история о детско-родительских отношениях.
– Валяй, болтай языком, издевайся надо мной дальше, – сказал Раймон. – Если ты хотел убить отца, как выражаются психиатры, то ничего не вышло, я и так уже мертв.
– Очень смешно!
– Это то, что надо, – одобрил таксист, – потому что обычно театр – мрачноватая штука, но жена обожает театр, а я обожаю жену, так что ничего не попишешь. Кто играет вместе с вами?
– Чтоб я знал!
– Вы что же, один на сцене?
– В каком-то смысле да.
Тома́ замолчал, отец тоже. Он хмуро смотрел на дорогу, сложив руки на груди.
Подъехав к залу Плейель, таксист повернулся и, отдавая сдачу, попросил у Тома́ автограф.
Отец проводил сына до служебного входа.
– Ладно, останусь здесь, не пойду на выступление, чтобы тебя не отвлекать, но уж потом изволь меня выслушать. Ты мне нужен, ты мой сын, мне не на кого рассчитывать, кроме тебя. Время поджимает.
Смятение в отцовском взоре смягчило Тома́. Ни разу в жизни он не видел отца таким печальным. Профессор был гордым человеком, умевшим скрывать грусть и при любых обстоятельствах твердившим, что все в порядке, хотя его сын лучше кого-либо другого знал, что это далеко не так.
– Твоя взяла, – смирился Тома́. – Встретимся здесь после концерта и поедем ко мне. В этот раз я тебя выслушаю.
Отец обнял его, и Тома́ почувствовал его нежность. Поколебавшись, он тоже обнял отца – и ощутил непривычную живительную полноту чувств.
Водитель, наблюдавший за ним издали, тронулся с места, бормоча:
– Ох уж эти актеры! Те еще чудаки!
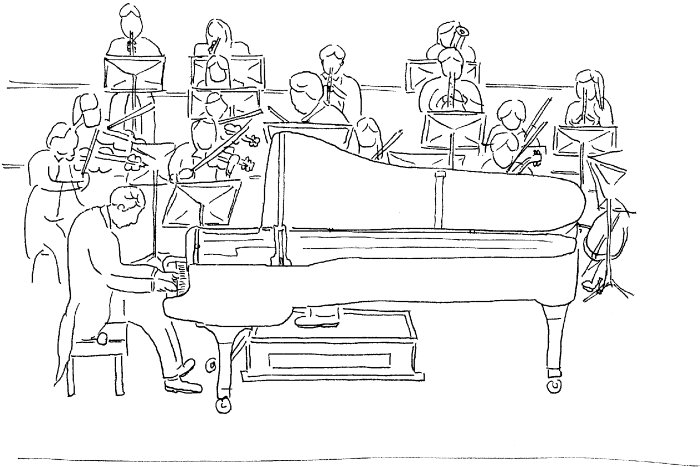
5
Отец дожидался его у служебного выхода, подпирая уличный фонарь. Тома́ застыл, любуясь неизменным отцовским плащом, из-под которого торчали фланелевые брюки и отменно надраенные мокасины. Раймон вскинул голову и встретил его ласковой улыбкой.
– Как ты отыграл? – спросил он.
– Без единой фальшивой ноты, – заверил его Тома́.
– Как твоя мать?
– Откуда ты знаешь, что она была у меня, если оставался снаружи?
– Я видел, как она входила, – смущенно ответил Раймон.
– Ладно, давай поторопимся, я устал.
Тома́ дошел до станции метро.
– Мы не поедем на такси? – испугался Раймон.
– Думаешь, я такой богач?
– Я рад бы был тебя выручить, да вот беда, мой банковский счет закрыт, – пошутил Раймон. – Терпеть не могу метро. Но раз у нас нет выбора…
Даже в этот поздний час поезд оказался набит битком. Тома́ сделал пересадку на станции «Вилье» и смог сидя проехать до остановки «Вокзал Сен-Лазар», где вошло много народу. Отец стоял с ним рядом, не испытывая необходимости держаться за поручень.
– Уступи место, – сказал он сыну шепотом, указывая глазами на пожилую пассажирку, которой было трудно стоять.
Тома́ послушно вскочил.
– Извините, задумался.
Женщина признательно улыбнулась и села.
– Спасибо, что подсказал, – тихо обратился он к отцу, – я ее действительно не заметил.
– Забей на старуху, с такими забитыми артериями она вот-вот сыграет в ящик, можешь поверить моему опыту. Ты полюбуйся на красотку напротив! Благодаря мне она обратила внимание на тебя, то есть на твою галантность. Она так улыбается, что стоит тебе молвить ей словечко – и дело в шляпе.
Тома́ предпочел промолчать, чтобы не сойти за сумасшедшего в многолюдном метро. На станции «Опера» красотка вышла. Хирург проводил ее раздосадованным взглядом.
– Куда ты смотришь? «Опера»! Вдруг она балерина?
– Если бы она вышла на «Сен-Лазар», то ты предположил бы, что она машинист тепловоза?
– Вы что-то сказали? – спросила его пожилая пассажирка.
– Нет, я разговариваю сам с собой, – виновато ответил он.
– Ничего особенного, со мной такое тоже часто бывает.
Отец укоризненно покачал головой.
Вернувшись домой, Тома́ с усталым вздохом повалился на диван.
– Мог бы хотя бы притвориться, что тебе приятно меня видеть, – упрекнул его Раймон.
– Приятно, а как же.
– Это признание равносильно согласию с тем, что я нахожусь здесь.
– Недели и месяцы после твоего ухода были нелегкими, но я уже начал привыкать к твоему отсутствию.
– Да уж, вижу.
– Ничего ты не видишь. Потеряв тебя, я провалился в бездну. Ты слышал, как я каялся перед твоей фотографией?
Вместо ответа на этот вопрос Раймон ласково улыбнулся сыну.
– Где ты был все это время?
– Сам не знаю. Мне самому было нелегко расстаться с жизнью, не говоря о том, чтобы потерять тебя.
– Как вообще живется там, на том свете?
– Тома́, – перешел отец на серьезный тон, – у меня нет права об этом рассказывать, но, если бы оно у меня и было, думаю, я не смог бы этого объяснить. Скажу так: там все по-другому.
– Ты счастлив… там, где находишься?
– Больше не мучаюсь ревматизмом, это уже кое-что. Если ты поможешь, я смогу быть счастливым.
– Если я помогу?..
– Я говорил, что мне нужно от тебя небольшое содействие.
– Это связано с той женщиной?
– С Камиллой! Я был бы тебе бесконечно признателен, если бы ты смог называть ее по имени, – ответил хирург, присаживаясь на клавиатуру пианино. – Как подумаю, сколько всего мы упустили, не пережили, сколько времени нам нужно наверстать…
– Да, знаю, и все это по моей вине, ты мне уже об этом говорил.
– Не только. Причина также в том, что в те времена такие вещи не практиковались.
– В общем, ты действительно явился, чтобы меня преследовать! Наверное, Сильвен недооценил масштаб ущерба.
– Наплюй на этого шарлатана. Ты сообщаешь ему, что видишь привидение, но он проявляет халатность, ограничивается салонной болтовней, даже не удосуживается тебя обследовать. Померить тебе давление ему и то было трудно! Если бы пациент, тем более друг пришел ко мне с такой жалобой, я бы немедленно распорядился сделать кучу анализов.
– Это врачебная рекомендация? Думаешь, мне надо бежать в больницу? – испуганно спросил Тома́.
– Да, рекомендация, но она относится к твоему дружку-психиатру. Сам ты в отличной форме, голова у тебя варит отменно. Думаешь, я не изучил твое состояние со всей дотошностью, как врач, с самого момента своего возвращения? Да, вид у тебя усталый, но в твоем возрасте не изнурять себя – значит наносить оскорбление жизни. Сам я в тридцать пять лет работал без передышки по двое суток и даже больше, и ничего, не умер.
– Так-таки не умер?
– Не забывай об уважении. Я героически преодолевал все трудности. С высоты своего опыта говорю тебе: ты тоже молодец. Попробуй обратиться в больницу с жалобой на донимающий тебя призрак отца – и увидишь, какой будет реакция.
Здесь он прав, подумал Тома́. Его молчание побудило отца продолжить:
– Камилла скончалась. – Говоря это, он смотрел в пол, как на похоронах. – Что ты на это скажешь?
– Что ты хочешь от меня услышать? Мне очень жаль. Но ведь я не был с ней знаком.
– Достаточно было бы слов сочувствия. Теперь, когда мы оба очутились по ту сторону, мы решили наконец соединиться… навсегда.
– Сам видишь, я за вас несказанно рад, но какое это имеет отношение ко мне? Хотя знаю какое: когда мамы тоже не станет, я буду лишен даже утешения представлять вас с ней вместе.
– Брось лицемерить, ты первый сказал мне, что наш развод стал для тебя облегчением.
– Ладно, но какая связь между вашими планами на вечность и мной?
– Раз ты сам упомянул о вечности… как ни смутно я ее себе представляю… то чтобы мы с Камиллой могли ее разделить, требуется соединить наш прах.
– Прости?..
– Можно сказать, перемешать. От тебя требуется совсем немного: пересыпать содержимое одной урны в другую и хорошенько все встряхнуть. Так наши останки перемешаются, и мы навсегда окажемся вместе. Не смотри на меня так, порядок во вселенной, тем более главные ее правила – не мое изобретение. Если бы нас погребли бок о бок, это решило бы проблему, но теперь уже поздно об этом говорить, и вообще, зачем довольствоваться однокомнатной квартиркой, когда есть возможность пользоваться широченной террасой с видом на море?
– Что еще за квартирка?
– Это метафора. Могила, склеп… Не говоря о соседях – это тоже немаловажно. Но мы с Камиллой хотим провести вечность на открытом воздухе. Я не прошу тебя достать луну с неба.
– Чего именно ты от меня хочешь? – спросил Тома́ и затаил дыхание.
– Мелочь, проще некуда. Похороны Камиллы пройдут через три дня, тебе всего-то и надо, что присоединиться к церемонии, дождаться кремации и постараться завладеть ее урной – ненадолго, только чтобы пересыпать в нее содержимое моей. Вот и все, дело сделано!
– Ты забыл добавить, что я еще должен все это хорошенько встряхнуть, – насмешливо напомнил Тома́.
– Это само собой.
– Я резюмирую: ты хочешь, чтобы я пришел на похороны незнакомой мне женщины, твоей возлюбленной, и похитил то, что от нее останется, из-под носа у ее близких.
– Совершенно верно.
– Пожалуй, достать луну с неба было бы попроще. Где похороны? – осведомился Тома́ так же иронично.
– В Сан-Франциско.
– Ну, разумеется.
– Почему ты произносишь это свое «разумеется» таким странным тоном?
– Это у меня странный тон?
– Вот именно, ты говоришь со мной странным тоном.
– Насколько я понимаю, если бы ее хоронили на кладбище Пантен или Пер-Лашез, то задача была бы слишком простой?
– Необязательно. Как ты понимаешь, я тут ни при чем, – не я отправил ее жить за тридевять земель. Как мы ни старались соблюдать осторожность, ее муженек в конце концов пронюхал, что что-то не так, и сделал все, чтобы между нами разверзся океан. Он устроил себе перевод по работе в Калифорнию. Обрубил своей семье корни, вот эгоист так эгоист!
– А по-моему, он смельчак: на все махнул рукой ради любви, отправился на край света, чтобы сохранить брак.
– Его погнала туда не любовь, а ревность!
– Зачем же она последовала за ним, если души не чаяла в тебе?
– Из-за дочери. Это как у нас: из-за тебя я остался в Париже.
– Прости, забыл, что испортил тебе жизнь.
– Я этого не говорил и никогда ничего подобного не думал. Так или иначе, бегство ему не помогло.
– Откуда ты знаешь?
– После ее отъезда я проявил себя как ответственный семьянин. Я отпустил ее, а вас, тебя и твою мать, оставить не смог. Я не стал мучить Камиллу и замолчал на долгие месяцы. Каждый день этого молчания стоил мне очень дорого, особенно цена возрастала, когда мы уезжали на летние каникулы. Если бы Камилла снова полюбила своего мужа, то не написала бы мне первой и мы не переписывались бы потом целых двадцать лет.