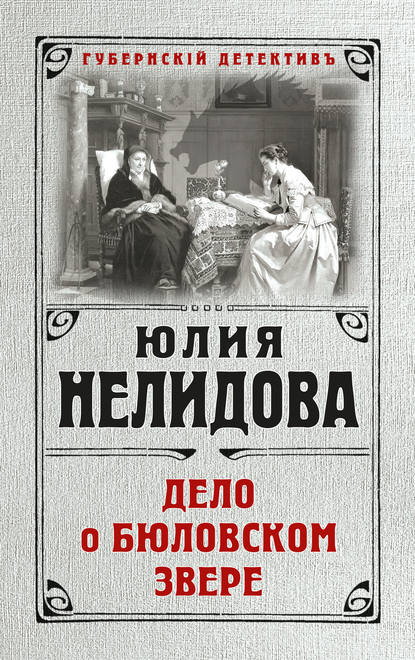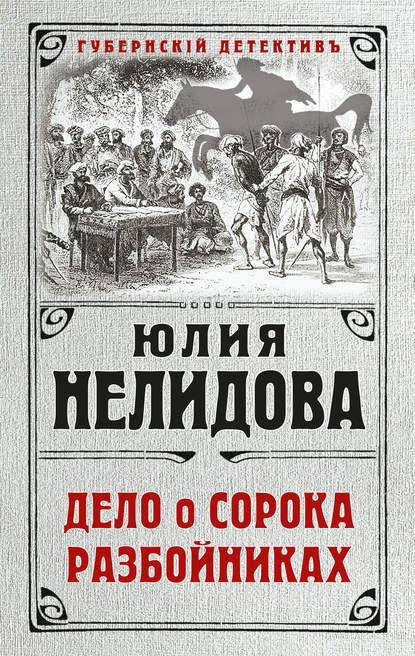Полная версия
Тайна стеклянного склепа
В эту минуту раздался чудовищный шум, грохот железной каракатицы – прямо на меня несся – нет, не велосипед, как то случилось в Бомбее, но трамвай, колокол которого разрывался от трезвона. Машинист, наполовину высунувшись из окошка, махал зеваке в потрепанном сюртучке, то есть мне, кричал что-то по-английски, с добавлением каких-то непонятных, не то сербских, не то албанских ругательств. Я ведь быстро позабыл, как оказался под колесами двухколесного авто на проезжей части в Бомбее, позабыл, что неплохо бы немного соблюдать осторожность и не зевать. Иллюзия не иллюзия, но стукаться каждый раз об нее было больно. Я ведь считать этажи остановился прямо посреди улицы, одной ногой на электрических рельсах. И насилу успел отскочить в сторону, как едва не попал под колеса другого трамвая, мчавшегося навстречу первому. Из окошка пригрозил кулаком другой машинист и огорошил ушатом уже не албанской, а немецкой брани.
Под колокольный перезвон трамваи съехались и разъехались.
Следом проскочили два едущих подряд открытых электроавтобуса, промчался зеленый двухъярусный экипаж, верхом на крыше которого восседал водитель, а внизу пассажир – почтенный старичок в очках.
Несколько мгновений я стоял, прижавшись к стене громады здания, принадлежащего одному из известнейших нью-йоркских издательств, ожидая, что еще какое-нибудь электродвижущееся «нечто» пронесется мимо. Но взгляд мой вновь увлекла кирпичная стена с блеском витражей, а потом другая, третья, четвертая. Я перебегал взглядом от здания к зданию и не уставал удивляться. Улица принадлежала газетчикам. И те не поскупились возвести самые высокие строения, дабы их стены могли использоваться для множества рекламных вывесок.
Ноги понесли дальше. Синий и Зеленый милостиво молчали, позволяя своему подопечному насладиться невидалью. В тот день моя невозмутимость окончательно иссякла.
Нью-Йорк почти весь оказался невообразимо высок. Башни, дома, даже церкви были здесь в несколько раз выше парижских, их словно поливали из волшебной лейки. И даже если Эйфелю вздумалось бы построить свою ажурно-стальную конструкцию на Манхэттене, то она просто-напросто потерялась бы среди изобилия убегающих в небо строений.
Едва ли не на каждой крыше развевался штандарт Соединенных Шатов Америки – разлинованное полотно с россыпью звезд. В глазах рябило от бесчисленного количества цветных вывесок – вывески были всюду. Они приглашали в модные лавки, на театральные постановки, демонстрировали товар и разносортные услуги.
Улицы были разлинованы правильно, будто по линейке, здания ни углом не выдавались вперед, ни крыльцом, ни забором, – все как в тетрадке школьника-аккуратиста. Но было что-то в этой строгости неземное, вторгалось порой в нее нечто космическое. Например, висящий вдалеке мост, тросы которого едва проглядывали сквозь остатки тумана, полупрозрачным саваном застывшим над океаном. Или огромная изумрудного цвета фигура олимпийской богини. В терновом венке, подпирающая черные тучи факелом в вытянутой вверх правой руке и со скрижалью в левой, она олицетворяла американское свободолюбие. А собирали статую в свободолюбивом Париже лет двадцать тому назад на улице Шазель. Не сразу я признал в этой колючей голове старую знакомую – тогда она была совсем другого цвета – бурого. Еще школяром я видел ее торчащей над кронами деревьев с участка мастерских месье Эйфеля. Но она была недостроена и покрыта лесами. А здесь – она словно властвовала над набережной, будто для того и поставлена была, чтобы растапливать факелом все норовящий наползти с океана туман. Стояла как истинный привратник.
Я шагал вперед, глазел, бормотал себе под нос, пока не остановился перед зданием необычной треугольной конструкции, разъединяющей улицу на две части ровной буквой «Y», поднял глаза и отшатнулся. Под самой крышей этого здания висела в стократ увеличенная афиша.
Тот же текст, что в на парижской и лондонской афишах, те же слоны и тигр. Но внизу приписка черными кудрявыми буквами: «Последнее представление доктора Иноземцева. Разоблачение Зои Габриелли. Наука против Магии». И дата: сегодняшняя.
Последнее представление! Разоблачение Зои Габриелли… Месье Иноземцев публично разоблачит ее? Как такое возможно?
На меня смотрело улыбающееся лицо Элен Бюлов, обрамленное черными косами, лоб стиснут причудливой диадемой. Рядом с ней будто повисла в воздухе строгая черная мужская фигура со свешенной как у куклы головой на грудь, лицо скрывали поля цилиндра – вероятно, это был месье Иноземцев. Широким жестом он расставил затянутые в белые перчатки руки в стороны, будто отвешивал публике комплимент. Но безжизненность его позы делала его похожим на огородное чудище, только одетое в новенький фрак. Чем-то зловещим веяло от этих расставленных в сторону ладоней.
Неужели доктор бросил медицину и стал фокусником? Ведь как ловко в его руках исчезали и появлялись карты. В гостинице Дюссельдорфа с большим апломбом он продемонстрировал удивительное мастерство ловкости рук. Теперь оба решили сойтись в бою на арене цирка, метать друг в друга молнии, карты, цветные ленты из цилиндра и дрессированных кроликов и крыс.
Быть такого не может! И не должно! Чтобы доктор из ученого вдруг стал балаганщиком?
После минутного смятения я смог отвести взгляд от фигур мадам Бюлов и ее русского супруга и перечел строчку в самом низу – Медисон-сквер-гарден, 19.00.
– Мне туда не попасть, – первое, что пришло в голову. – Слишком поздно. Который час?..
Этот вопрос я не задавал более десятка лет. Который час… Разве важны эти цифры? Солнце на востоке – значит утро, в зените – полдень, нет солнца – ночь. Темнеет небо – время перед рассветом, пора будить монастырь – иногда мне выпадала и такая почтенная миссия. И без брегета я поднимался вовремя. Небо, каким бы оно ни было, звуки в воздухе – будь то пение птиц или жужжание цикады, солнечный свет – нежно-лиловый, или золотой, или алый – способны с точностью до секунды рассказать, который час.
Но небо, сокрытое небоскребами, молчало, оно находилось так далеко от меня, словно я опустился на дно глубокой гладко отштукатуренной ямы, заполненной автомобильным гулом, треском электрических трамваев и неумолкающим людским гомоном. Ни о каких птицах не шло и речи – природы здесь не услышать, лишь грубое присутствие человека.
Даже в китайских деревнях не было так шумно, хотя я полагал, что китайцы самый суетливый народ в мире.
– Душе неведомы никакие преграды, – вдруг заговорил Синий, заметив мое смятение.
– Душа как вода, – отозвался Зеленый, – она принимает цвет и форму сосуда, в котором пребывает.
Я опустил голову и оглядел себя. Решение пришло тотчас же.
– Правильно! Нужен костюм, – проронил я. – Спасибо!
– Душа станет незримой, коли будет отражать все вокруг, – продолжал Синий.
– Она сольется с миром, она станет прозрачной, – сказал Зеленый.
– Как вода, – пропели оба.
И я, развернувшись на пятках, двинулся в обратном направлении. Четверть часа назад я проходил мимо ряда лавок, располагавшихся на первых этажах высоких небоскребов. В память врезалась ярко-лиловая вывеска магазина готового мужского и женского платья где-то на пересечении двух ровных улиц – каких именно, я не запомнил. В Нью-Йорке вместо живописных названий на табличках часто значились просто цифры. И я запоминал оттенки, которым раздал номера. Для меня это находилось на пересечении серо-жемчужной улицы и пурпурной.
Эта манера заменять цифры цветами во мне родилась после пребывания в яме. Забавно было бы посмотреть на лицо прохожего, вдруг вознамерившегося спросить меня, который час. Я бы ответил – половина антрацитового или четверть персикового.
Звякнул колокольчик, следом застонала стеклянная дверь, пахнуло запахом шерсти и пыли. Под невысоким потолком в ряд стояли манекены и вешалки, в углу за грудой разносортных шляп и шляпок копался скрюченный и суетливый продавец в жилете без пиджака – разглядеть можно было лишь его округлую спину. За прилавком никого. Но поверх сидел мальчик лет двенадцати, читал книгу и грыз пряник. Он отнял глаза от страницы и бросил короткий взгляд на дверь. В одно мгновение его лицо изменилось, с колен скатился переплет и упал прямо к моим ногам.
Я поднял книгу.
«The Time Machine. H. G. Wells» – значилось на обложке.
– Это же настоящий путешественник во времени, – вскричал юный мечтатель. – Дядюшка, только глянь!
Из-за груды шляп и шляпок сначала показалась лысеющая, седая голова продавца, потом его плечи и туловище в потертой жилетке и с нарукавниками на рубашке, через голову был перекинут портняжный метр. Он удивленно вскинул бровями, на мгновение растерялся, но вскоре поспешил отругать племянника:
– Ну Адам, как тебе не стыдно! Сейчас же принеси свои извинения. Сэр, добро пожаловать в лавку «Вэнссон и сыновья». Простите юношу, он такой фантазер…
И скользнул взглядом к моим босым ногам (к тому времени ботинки свои я где-то посеял), снова в удивлении приподняв брови.
Я кашлянул, вдруг ощутив неловкость. Мне казалось, я так редко раскрывал рот и говорил что-то вслух, в основном ведь за меня это делали Синий и Зеленый… Когда требовалось самому извлекать звуки из недр голосовых связок, чтобы обратиться к собеседнику, в горле вдруг пересыхало, язык с трудом отзывался на сигналы мозга. Между словами, произносимыми личной мной и теми речами, что толкали мои разноцветные братья, я делал немалое различие. Синий и Зеленый не трудились, чтобы говорить, мне же – Эмилю Герши – приходилось едва ворочать языком и насилу разжимать челюсти.
– Юноша прав, – проронил я, возвращая тому книгу. – Я явился прямиком из 1890 года. Именно тогда был пошит мой костюм. Не могли бы вы помочь приобрести что-нибудь, что носят в новом столетии?
И вынул бумажник, боясь, что меня примут не только за путешественника во времени, но за какого-нибудь бездомного.
– О да, сэр, конечно, сэр, сию минуту, сэр!
И под недоуменным взглядом мальчика, шепчущего: «Машина времени существует, это правда, этот мистер из прошлого», продавец увел меня в царство «готового мужского платья». Это было невероятно странное чувство – ощущать себя путешественником во времени.
Но, ступив за порог лавки, я забыл о роли путешественника и почувствовал себя актером немого кино.
Нет, вовсе не потому, что был одет в полосатую тройку и пальто, вовсе не потому, что мою голову украшала шляпа-хомбург, шею – галстук-пластрон, а ноги – жесткие и неудобные оксфорды. Я чувствовал себя комедиантом, вырядившимся так, словно желал посмеяться над окружающей лощеностью и манерностью. Люди видели элегантно одетого джентльмена, я же – шагающего мима с раскрашенным белой краской лицом. Вырядиться так было все равно что шагать за каким-либо прохожим, подражая его походке, манере носить портфель, держать трость и помахивать при ходьбе рукой.
По совету продавца я нанял самодвижущийся фиакр, который здесь именовался «такси». Это как раз был один из множества зеленого цвета электромобилей суетливо снующих по всему городу с большими, тонкими колесами, с восседающим на крыше шофером и мягким диваном спереди. Назвал Медисон-сквер-гарден, и за двадцать центов меня довезли до большого белого здания, находящегося на пересечении Медисон-авеню и 26-й улицы. Увенчанное четырьмя квадратными башенками с красной кровлей в мавританском стиле и одной невероятно высокой – тридцатидвухэтажной, оно величественно выдавалось над запруженной людьми и электромобилями, блестящей от дождя площадью.
Я не сдержал разочарованного вздоха – еще час до представления, а не то чтобы успеть приобрести билет, но даже пробраться сквозь эту толчею не было никакой возможности.
Судя по размеру и размаху здания, оно вполне могло вместить всех собравшихся и еще столько же. Но я не знал, что арена Медисон-сквер была уже полна, а на улице стояли те, кто, как и я, не приобрел вовремя билет на последнее и единственное представление, на котором таинственный русский доктор собирался разоблачить вечно юную прорицательницу Зои, вещавшую пророчества уже почти двадцать лет.
– Такого столпотворения не было со времен, как Сиракузы забили свой финальный мяч, – услыхал я в толпе и невольно остановился.
– Этот русский доктор опять навел столько шумихи вокруг себя. Мало ему пожара на Лонг-Айленде и собственных похорон.
– Неужели он наконец снимет маску?
– Не-ет, говорят, он теперь страшно уродлив. Хотя стоит ли верить слухам.
– Если верить очередной утке Пулитцера, то и слухам – конечно!
– Вы читаете «Нью-Йорк Вордс»? Бросьте! После того как журналистка из этой газеты разыграла сумасшедшую, я ломаного цента не дам за клочок пахнущей краской и пропитанной ядом бумажки, – взвизгнула дама в кремовом пальто и шляпке с такими широкими полями, что зонтик, который она держала над головой, был ей попросту не нужен. Дамы предпочитали очень внушительные головные уборы, и очень раздражались, когда в толпе задевали друг друга краями.
– Вот бы узнать, прибудет ли Гудини?
– Чтобы хоть краем глаза взглянуть, как русский заставит исчезнуть три слона, в то время как он смог совладать лишь с одним?
Все дружно расхохотались. Я тоже улыбнулся, хотя знать не знал, кто такой Гудини. И остался стоять еще несколько секунд, чтобы послушать, но группка больше ничего интересного не поведала. Да и слушал я, наверное, с чрезмерной и неприличной внимательностью, так что дама в кремовом пальто, плотно облегающем по нынешней несколько крикливой моде, стала косо поглядывать на странного не к месту улыбающегося господина, да еще и остановившегося на расстоянии вытянутой руки. Ее спутник осведомился, и не слишком почтительно, что мне надобно.
Меня спасло появление перекупщика билетов. Молодой человек в твидовой кепке набекрень и в пальто с чужого плеча нараспашку, из-под которого выглядывал растянутый пуловер, стал горланить, что продаст заветные бумажные лоскутки, которыми помахивал в воздухе, всего за двадцатку долларов. Я не успел и руки ему протянуть, как тотчас уличный коммерсант исчез из поля зрения – орущая толпа поглотила его, и билеты были моментально куплены кем-то более проворным.
С несчастным лицом, преисполненный молчаливого горя, я проводил взглядом того счастливчика и его спутницу, которым досталась возможность повидать саму Кали. А ведь они, поди, и не ведали, на кого отправились поглядеть. Никто вокруг и мысли не мог допустить, что прекрасная юная прорицательница есть земное воплощение Смерти…
А я знал, но знание это никак не помогло мне приобрести билет. Хоть то и без толку, тем не менее я стал протискиваться к кассам. И даже преуспел, но окошки были давно закрыты.
– Не могли бы вы мне помочь, – попросил я, подобравшись к работнику арены, одетому в зеленую ливрею времен Марии-Антуанетты. – Я давний знакомый месье Иноземцева, и единственный способ повидать его – попасть внутрь…
Швейцар окинул меня из-под белого парика насмешливым взглядом.
– Знакомых доктора за сегодняшний вечер можно считать уже не десятками – сотнями и даже тысячами.
– Мое имя – Эмиль Герши. Достаточно только передать…
– Хорошо, сэр, вашу визитную карточку, пожалуйста.
Я смутился.
– У меня ее нет, пока нет…
– Всего хорошего, сэр.
Развернулся ко мне затылком и зашагал прочь. Мне же ничего не оставалось, как смириться с неизбежностью – на арену не попасть.
Стоял я так четверть часа, полчаса. Стемнело, включились фонари, цветные вывески, украшенные лампочками, шныряли световые столбы от проезжающих мимо автомобилей – город в одно короткое мгновение от сгущающихся сумерек вдруг перешел к яркому полдню, но искусственному, фальшивому, нарочитому. Солнце не успело закатиться за подвесной мост, как Нью-Йорк засверкал всеми цветами радуги. Толпа зашумела, некоторые разошлись в пользу более доступных заведений, но подошли другие. Представление вот-вот начнется, народ ни с крыльца, ни с тротуара уходить не спешил. Воздух трещал множеством бесед, раздающихся одновременно от множества группок, трещал от смеха, продолжали беспрестанно гудеть автомобильные клаксоны, издалека нет-нет доносился колокол трамвая.
Вдруг швейцар, что отказал в просьбе, вернулся, локтями он расталкивал всех кругом, напустив на лицо сосредоточенно-напряженную мину, будто ему было поручено задание государственной важности и исходило оно из самого Белого дома.
– Мистер Герши? – спросил он и почтительно склонился, заложив за спину затянутую в белую перчатку руку. – Мистер Иноземцев примет вас в своей ложе. Разрешите вас проводить?
Оглушенный неожиданной удачей, я последовал за работником арены, миновал крыльцо, просторный холл, поднялся по лестнице, мои стопы тонули в алом ворсе ковровой дорожки. Всюду стояли люди. И на лестничных маршах, и в коридорах, и у дверей, и в нишах окон – каким же должен быть размер самого стадиона, чтобы каждый мог разместиться в нем?
Я оказался в темноте одной из лож.
Во всех остальных горел свет, портьеры подняты, люди шевелились, словно пчелы в сотах большого улья. Под ложами – ряды кресел по кругу, и ни одного свободного места.
Моя ложа была не освещена и зачем-то глухо задрапирована. Из ее темноты, в просвет узкой щели спущенных портьер замечательно просматривалась вся арена целиком и тройной ряд балконов по кругу. Я приблизил лицо к узкой полоске света и выглянул наружу. Под потолком висели тросы и канаты, наперекрест свисали веревочные лестницы, стальные флаги одноцветной серебристой гирляндой обрамляли потолок и шелестели, словно молодая листва. По центру – самый настоящий фонтан вздымал шумные струи едва ли не к самому потолку. Представление обещало быть самым что ни на есть цирковым.
Столько шума ради цирка.
Подумав так, я глянул направо. В ложе я восседал уже не один, а рядом с каким-то господином, который, неясно, пребывал ли в соседнем кресле до моего прихода, или же явился, пока я пялился по сторонам. Ведь было темно.
Наконец электричество на арене потухло, портьера, скрывавшая ложу, раздвоилась, разъехалась по сторонам, словно под воздействием незримого механизма, зажегся круглый прожектор. Овальное золотое пятно скользнуло откуда-то сверху к фонтану и осветило его хрустальные струи. Из самого центра светового пятна вдруг появился человек в костюме времен Марии-Антуаннеты: в парике и чулках и с бантами на туфлях – и стал что-то громко декламировать. На мгновение показалось, что это тот самый, что ввел меня в ложу. Но таких лакеев по Медисон-сквер-гарден сновало множество.
Дверь позади меня скрипнула, вошла дама, шепотом извинилась и села от меня по левую руку.
И я оказался между ней и сим таинственным господином.
Тот, к слову сказать, не сделал ни единого движения, чтобы поприветствовать вошедшую гостью, и на меня никакого внимания не обращал, продолжал сидеть, заложив ногу на ногу и скрестив руки на груди с какой-то нечеловеческой неподвижностью. Даже дыхания его не было слышно – точно неживая восковая фигура. Дама же оказалась более живой. Она обмахивалась веером и часто вздыхала, доставала платок, прикладывала его к глазам, поправляла ридикюль, полностью приковав все мое внимание к своей персоне. Позабыв о восковом господине, я глядел на нее безотрывно, вернее, на ее силуэт в темноте, отчего-то ощутив колыхание в сердце, будто эти вздохи и эти движения были знакомы.
– Что вы уставились на меня? – грозным шепотом наконец проронила она. – Глядите – вот Зои!
Я дернул головой, перевел взгляд на арену: оказалось, многое пропустил. Декорации сменились – внизу цвел самый настоящий сад со множеством деревьев. Зои в синем сари бродила меж стволами и прикосновением пальцев заставляла их цвести и тут же плодоносить. Видимо, секрет был в перекрестии цветных прожекторов, широких и узких, которые создавали эффект цветения. Это, верно, какая-то неведомая оптическая иллюзия. Или спрятанный от глаз зрителей механизм – следствие человеческого прогресса, как и быстроходный пароход, как электромобили и высокие дома, при одном взгляде на кои кажется, что они под воздействием ветра рухнут прямо на мостовые и деревья.
Заиграла торжественная музыка, арена на минуту погрузилась во мрак. А когда овальное пятно прожектора вновь зажглось, рядом с Зои стояла мужская фигура во фраке и цилиндре. Голова была точно так же опущена на грудь, как на афише. Фигура застыла на несколько секунд, точно поломанная марионетка, а потом резко вскинула голову, будто кто дернул за ниточку. К зрителям было обращено лицо, затянутое в белую, тряпичную маску с длинным клювом, какую носили средневековые медики во времена чумы.
Зал ахнул, заревел, некоторые потребовали, даже с угрозами, чтобы маска была снята. Но черный фрак поднял руку – безжизненным кукольным движением. В руке, затянутой перчаткой столь же белой, что и маска, сверкнула колба с дымящейся жидкостью.
И он плеснул эту жидкость в фонтан. Фонтан в мгновение ока застыл, скованный льдом, застыл в причудливых иглах, точно неведомый ощетинившийся зверь, точно хрустальный дикобраз. Зал прекратил рев, вновь ахнул и замолчал в ожидании. Зои присела к фонтану, она вскидывала руки, заламывала их, изображая стенания и порицая гостя, ее движения были полны отчаяния.
Она бросилась на колени, совершила несколько чудесных пассов руками, и фонтан снова ожил. Зал отозвался бурным рукоплесканием.
От золотого пятна луча прожектора отделилось второе пятно и заскользило по рядам лож, освещая зрителей. На мгновение свет почтил своим вниманием и меня. Я не преминул разглядеть свою соседку, которая на протяжении всего спектакля не переставала что-то сентиментально шептать, поднося к глазам платок. И чуть не повалился на неподвижного господина, сидящего справа, ибо на меня смотрело улыбающееся теплой, лучистой, ясной улыбкой лицо Элен Бюлов. Мягкие складки пролегали от носа к губам, у глаз собралась пара тонких морщинок, на лоб падали серебристые прядки от высокого шиньона.
– Поглядите, дорогой мой друг, Емельян Михайлович, – всхлипывая, проронила она по-русски, – как она чудесна!
Я вздрогнул от ее голоса, словно услыхал его впервые, невольно вернулся взглядом к арене, где индийская принцесса с диадемой в черных волосах и в синем сари демонстрировала огненные узоры в воздухе, а злой, гадкий, противный фрак их тушил, распрыскивая какой-то состав из пульверизатора. Что это? Как это? На сцене Элен Бюлов и здесь рядом, в кресле по левую руку, – тоже Элен Бюлов?
Свет прожектора, гулявший по лицам зрителей, скользнул к фигуре соседа справа. И я вновь отшатнулся – неподвижная, восковая фигура принадлежала Иноземцеву. Худое лицо его, обрамленное седой бородой, сильно постарело, взгляд через неизменные очки был направлен вдаль и куда-то сквозь пространство – он не следил за борьбой черного фрака и синего сари, он не взглянул ни на меня, ни на мадам Бюлов. Я не знаю, сдержал ли я вопль? Наверное, возглас недоумения все же сорвался с моих уст, но он потонул во всеобщем гуле рукоплесканий. Я был несказанно поражен.
А Иноземцев продолжал сидеть как статуя. И только когда луч сошел с лица и погрузил в темноту его неподвижную фигуру, я услышал шелест – доктор переложил ногу на ногу и поменял перекрестие рук.
Шумно выдохнув, я повернулся к сцене. Кто же тогда был этот – в белой маске с клювом?
А тем временем тот, кто должен был, по моему мнению и мнению всего зала, если верить афише, быть доктором Иноземцевым, стоял у стеклянного, неведомо откуда взявшегося лабораторного стола и колдовал над стеклянными лабиринтами узких перегонных колб, чаш и большого дистилляторного аппарата ощетинившегося разнообразием изогнутых трубок. Вскоре к потолку взмыло самое настоящее облако, такое же, какое спустилось ныне утром на пирс № 54, когда я сошел с трапа «Лузитании» – густое и белое, как клок ваты. Облако стало чернеть и расти в размерах прямо на глазах, показались первые всполохи молнии, прогремел самый настоящий гром. Гром в Медисон-сквер-гарден! Раздалось визжание дам, сверкнула яркая молния и полил дождь. Дождь в Медисон-сквер-гарден! Мгновенно заливший арену и превративший его в озеро.
Озеро подобно настоящему морю стало волноваться, по поверхности его поплыли частые гребни. Внезапно под гребнями пенистых волн выглядывали спины неведомых рыб, их чешуя сверкала в свете прожекторов как рассыпь бриллиантов. Вынырнул и шлепнулся в пену волн настоящий сизобокий дельфин.
Я еще не отошел от смятения, ибо сидел между Элен Бюлов и доктором Иноземцевым, в то время как они должны были пребывать внизу, на арене, как сердце мое сжалось от неприятного, горького чувства. Я столько раз видел грозу. Нет ничего более страшного и завораживающего, чем грозы в горах, когда раскаты до того оглушающе, что кажется, скалы-гиганты рухнут, земля расколется и настанет конец всему сущему. Но гроза под куполом цирка – это неслыханная дерзость, это вызов человека всемогущей Природе.
Вероятно, Зои тоже так считала. Я и не подозревал, кто такая была эта Зои с двумя темными косами и лицом Элен Бюлов, но она сложила руки ладонями у груди в приветственном жесте «намасте», опустилась в позу лотоса и замерла причудливой синей фигурой, словно сошедшей с фресок буддистского храма. Внезапно она, не выказав ни намека на движение, взмыла в воздух, продемонстрировав невозможную для строителей быстроходных лайнеров и тридцатиэтажных небоскребов левитацию, невозможную и для теософов и для тибетских хранителей гор, ни для святых, ни для отшельников.