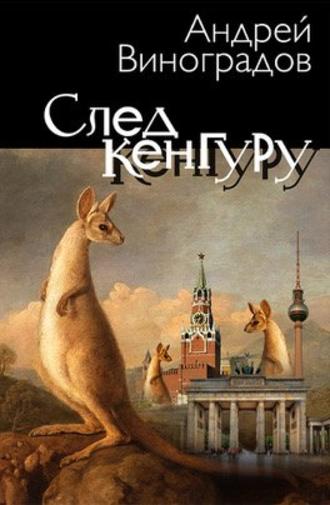
Полная версия
След Кенгуру
– Завтра придет…
Старший Кирсанов так ничего и не поймет, или не захочет понять. По крайней мере, сомнительные успехи его сына в учебе не дают исследователям материала для иных объяснений.
Со скрещенными на груди руками Герман Антонович Кирсанов хмуро и молча наблюдал за происходящим, а встретившись глазами с доктором, отрицательно покачал головой. Медленно, убедительно, один раз, туда-сюда. И тот, битый жизнью дальтоник, язвенник, отец-одиночка, зарекшийся кому- либо доверять в этом мире, как-то сразу взял и поверил. Больше того – оправдал на скорую руку и подумал, что сам тоже не прочь и что давно пора. По глазам было видно. Он заспешил, предвкушая возвращение домой, где царствовал подрастающий разгильдяй.
Великая это наука – уметь правильно, в нужный момент покачать головой. Я всегда считал, что именно этому надо учить в школах и институтах, тем более, что всю последующую жизнь примерно этим и занимаемся, и чаще всего неумело. Еще бы немецкий оставил и физкультуру, мне пригодились.
Мама Антоши, Светлана Васильевна, в отличие от отца, по-женски была готова вступиться за подвергшуюся молчаливому порицанию честь семьи и макнуть эскулапа в подванивающее болотце семейных проблем, посвятить доктора в историю происхождения синяка, предъявить изуродованную папаху. Что до следов от ремня, то они были делом житейским и если вызывали чувства у людей нелицемерных и не ханжей, то по большей части – зависти: «Вот есть же мужики со стержнем! А у меня, слабака, кишка тонка, рука, видите ли, не поднимается на родное дитя. Вот и растет обалдуй, без тормозов».
Кто знает, скольких отцов прилив нечаянных эмоций подтолкнул, в конечном итоге, к первым, пока неумелым расправам над незадачливыми и разбитными потомками. Потом они втягивались и входили во вкус, еще как входили! По своей заднице знаю. Мой родитель как раз из таких был. В седьмом вдруг ка-ак взялся наверстывать упущенное. Столько советов прописал ременной тайнописью – почти все помню, а ценных среди них – два-три!
Все-таки, зависть, пусть даже к чужой решительности, чувство неправедное и неправильное. Если бы мой отец был тем самым доктором, я, чем угодно клянусь, отыскал бы Антона Кирсанова и втихаря придушил. Без малейших сомнений и последующих мук совести. Что вообще такое эти муки совести?! Можно подумать, совесть уже родилась с артритом, панкреатитом и другими мучительными «атитами». То есть ущербной? Пусть ее. Я тут каким боком? У меня своей хроники только, что поделиться могу: пьянство, вранье, лень! Только мук совести не хватает.
Светлана Васильевна слегка подалась вперед, на ее лице сложилось виноватое выражение, сдвинулись в нужном направлении брови, уголки губ. Строго говоря, выражение не очень соответствовало обстановке, зато было вполне привычно: так она весь последний год проходила на вынужденные свидания с Антошкиной воспитательницей в детском саду. Однако в последний момент мать Антона говорить передумала. Решила, наверное, что оправдываться ни к чему, не перед кем, или поздно. Или Герман Антонович глянул в ее сторону строго – сын-бедолага этот момент не отследил, слезу из себя выдавливал, а она, слеза, вдруг как пошла ломиться наружу без всякого понукания! А услышал отцовское «Распустил нюни.» и вовсе от обиды контроль над собой потерял. Хорошо еще, медицине он был уже не нужен, а потому натянул одеяло на голову, под ним и хлюпал, пока провожали доктора.
Когда визитер с потертым, потрескавшимся саквояжем – с таким Антон постеснялся бы показаться на людях – покинул квартиру Кирсановых, отец сказал, что из-за таких хлюпиков и неумех, как этот лекарь, скоро некому будет в армии служить, а мама обозвала его «бесчувственным чурбаном» и «сапогом». Потом сказала, что отец сам во всем виноват, и никто, кроме него, потому как:
– Нечего где попало свои дурацкие шапки разбрасывать!
– Папаха, – педантично поправил ее отец, а бабуля закивала китайским болванчиком:
– Папаха, папаха.
На новый скандал сил не было ни у кого, это вышли остатки пара. Любая семья, собой дорожащая, умеет его стравить и при этом не перепутать долгожданный момент с отмашкой начала нового круга. Пар кирсановский вышел легко, без напряга, даже на приличный свист не хватило бы.
Засыпал Антон под действием гадкой вонючей микстуры, остатки которой заползли под язык, да там и затаились и теперь подло пощипывали, хотя и не так подло и сильно как мазь на попе. Даже когда доктор втирал ее, не было так больно. «Хорошо, что не мазь под языком. Хорошо, что она далеко от языка», – успокоил себя Антон. Лежать на животе, вывернув голову так, чтобы не касаться подушки раздувшейся левой щекой, было еще одним довольно заковыристым неудобством, но неожиданно возвращенная в дом, в мир, в жизнь справедливость превращала все, что было и все, что происходило сейчас, в пустяшные мелочи.
– Не фиг где ни попадя шапки разбрасывать, даже если это папаха! – прошептал он в подушку.
Вот, оказывается в чем было дело.
Признаюсь, я бы и сам не нашел лучшего объяснения. «Отмазка» и в то же время «предъява», – как говорят сейчас. Круто.
К папахе судьба милосердия не явила
К папахе судьба милосердия не явила. Ее, изуродованную, перекроили на «кубанку» для мамы, несмотря на все протесты Светланы Васильевны. Мама убеждала отца, что будет в этой шляпе похожа на ожившую «четвертинку». Ее расчет был понятен: малые формы в доме Кирсановых, равно как и в окружении этой семьи, никогда не приветствовались. Отец Антона полагал их пустым лицемерием: «Все равно второй раз бежать».
Для неискушенного Антоши Кирсанова слово «четвертинка» было внове. Он думал о ней, как о птичке-невеличке, четвертушке от голубя, то есть о синичке, к примеру, или о снегире, если зима голодная и снегирь худенький. Мама была небольшого росточка, полненькая, но в меру, по тогдашним стандартам упитанности, и совершенно не походила на птицу. По крайней мере, ни на одну из известных Антону. Даже когда мама надевала очки и выкладывала вокруг головы косу узловатым колбасным колечком, им из Киева присылали такие, остро пахнущие чесноком. – все равно походила не на птицу, а на человека с колбасным кольцом на голове. Наверное, поэтому Кирсанов старший и остался в вопросе будущего папахи непреклонен – «четвертинкой» его мама не убедила.
Папаха отправилась к скорняку и вернулась миниатюрной «таблеткой», потеряв всю былую значимость. К ней в придачу отдали сверток с обрезками, по-видимому для того, рассудил Антон, чтобы моли морочить голову, шельмовать ее, подлую, отвлекать от основного объекта. Такую предусмотрительность младший Кирсанов не оценил. По его глубокому убеждению, на мелочевку, в какую превратилась былая папаха, моль и без ухищрений не позарилась бы. Не должна была, если испытывала хоть толику уважения к самой себе. Сам он, родись молью, даже не глянул бы в сторону этой нынешней шапчонки. Уж лучше отварной куриный пупок съесть. «Ненави-ижу.» – вспомнился вкус пупка.
Время от времени мама поддавалась на уговоры отца, уступала офицерскому натиску и выходила в «кубанке» в люди, но по большей части бывшая папаха, словно не в силах забыть о своем героическом прошлом, стыдливо хоронилась в шкафу. Она оживала лишь в те дни, когда Антон, оставаясь один на хозяйстве, играл в войну, партизанил, громя трусливых и глупых фашистов. Один только вид залихватски наползавшей на уши шапки с черным бархатным верхом и красным лоскутом поперек каракуля – лоскут крепился булавками – обращал полчища захватчиков вспять. Иногда, правда, исключительно для сценарного разнообразия, все же случались ранения и даже гибель отчаянного парня, что, впрочем, никоим образом не сказывалось на итоге сражения. Антона оплакивали боевые товарищи, вообще все товарищи, школьные тоже, скорбели родители, соседи, учителя. Они говорили слова, какие в кино говорят над павшим героем. В общем, погибать он любил, но не злоупотреблял сюжетом своей кончины, что-то мешало, препятствовало. Возможно, первые признаки отравления бабушкиными суевериями проявились уже тогда. При этом интуитивная осторожность вредила драматизму моноспектакля, да и динамика действия заметно страдала, потому что чествовать победителя у Антона получалось существенно хуже, чем хоронить и страдать от лица народа. С чествованием вроде бы все нормально и не натянуто выходило, но без надрыва, а потому как-то. сомнительно, что ли, по части искренности.
Взрослый Антон всем сердцем, до обожания полюбит грузин за отсутствие в их тостах ощутимой фальши, хотя природная недоверчивость и подскажет ему, что не все так однозначно и просто, и притаившуюся неискренность умело скрывают ласкающий ухо акцент вкупе с бархатной мягкостью вин, пьянящих так нежно и неторопливо, что когда захмелел, то уже не помнишь, зачем пришел. «С водочкой так не выходит, – будет думать он о соотечественниках. – С водочкой все по другому: вмазал – и после второго стакана душа уже вся снаружи, вынута, вывернута, будто стелька из промокшего башмака». Самому ему такие конфузы будут неведомы, но понаблюдает всласть. Не раз и не два. Антон определится со своей «пограничной дозой», внушительной даже для выпивох с солидным стажем, и крайне редко, с большой неохотой и только по служебной необходимости, позволит себе приближаться к полосатым столбам. А уж чтобы «на ту сторону». Боже сохрани! Не чужим умом дошел до такой мудрости, своего ума, впрочем, тоже не хватило, только опыт, все личный опыт.
А пока он, будучи первоклашкой, играл в войнушку в маминой «таблетке», выигрывал одну за другой жестокие, кровавые битвы и время от времени погибал смертью храбрых. Погибал по плану, не когда придет в голову, под настроение, а исключительно по логичным поводам – двойкам и неприятным записям в дневнике, однообразно и тупо – ну не доставало учителям полета фантазии! – сообщавшим об опозданиях или срывах уроков. Вот так: «Сорвал урок русского языка». Без прилюдий, прямо в лоб. Чудовищно. Непростительная приземленность. Притом, что сорван урок был изящно, с выдумкой. Сперва с парты был запущен бумажный немецкий самолет, а потом обстрелян бумажными шариками через красную трубочку. Продуманное до деталей, отлично спланированное, увязанное по времени последовательное действие. И это в первом классе! Или вот еще пример – учительница пения. Второй класс. Ни при каких условиях эта дама в летах не желала признать, что в природе встречаются дети, у которых нет слуха, которым медведь по ушам прошелся. Таково было ее педагогическое кредо. Нелюбезные для посторонних ушей звуки, издаваемые Кирсановым ко всему прочему невпопад, то есть вне ритма, воспринимались учительницей как нежелание заниматься, как «настоящее хулиганство!» При этом, будучи одаренной по части слуха и голоса, учительница была подвержена нервным срывам. Хотя Антон и вынужден был отметить, что орала она тише, чем кошка, вытащенная из пианино, и музыкальнее, чем он исполнял «Марш юных пионеров».
Между прочим, причины досадной неудачи с исполнением марша коренились в самодурстве Антонова окружения: репетировать дома ему строго настрого запретили, а дворовая компания пригрозила высечь крапивой, если он заголосит еще хоть один раз. Так и получилось, что носил- носил в себе парень текст и музыку, слились они, забродили, ну рвануло на уроке. Будто две нейтральные жидкости в бинарном заряде соединились. И эффект, кстати, получился схожим. Учительница за эти вопли оставила на перемене пианино полировать, тогда и посетила Антона идея с кошкой.
Слава богу, учительница, в отличие от обезумевшего животного, не царапалась, не металась по классу, цветы с подоконника не повалила, а все равно какая-то она была не в себе. Поменяйся они местами, Антон так бы в дневник ей и написал: «ненормальная».
Учебный процесс убивал героя
Учебный процесс убивал героя. Обстоятельства складывались таким образом, что он все чаще погибал в бою и все более горючие слезы проливали боевые товарищи над его остывающим телом. И суеверия, кстати сказать, отпустили бойца, видимо, опять самой бабке понадобились – во дворе кто-то отчаянный прикормил черную кошку, и теперь она зловредно поджидала старую Кирсанову в самом узком месте двора, чтобы наверняка перебежать дорогу. Антон просто так, забавы ради, поведал бабуле, что доподлинно рассмотрел на пузе «небогоугодной» живности белое пятно, превращавшее кошку из вестника неудач в тварь вполне себе безобидную. Старушка октябренку поверила, на следующий день не сплюнула и крестом себя не осенила, как полагается, переступая через кошачий след. Сделав пару дюжин шагов, она поскользнулась, неудачно грохнулась и подвернула правую ногу так сильно, что пришлось вправлять и накладывать тугую повязку. Две недели она с Антоном не разговаривала. Сидела на кухне сычом, водрузив раздавшуюся вширь ногу на табуретку, и ворчала неразборчивое, но наверняка недоброе. Пришлось маме, Светлане Васильевне Кирсановой, использовать накопленные отгулы и еще добирать днями «за свой счет». Мысль о том, что Антон вдруг сам примется стирать, готовить и убирать, ее ужасала. Его тоже, даже больше.
На улицу «кубанку» Антон ни разу не выносил. Хотя. Один раз все- таки было, но ведь и искушение такое. Прямо фаустовское! Поди его преодолей. Важно, что все обошлось без потерь – имущественных и в живой силе, если рискнуть отнести к ней кожные покровы филейных частей тела. Казаки-разбойники в «кубанке» игрались совсем по-другому, буквально по- настоящему, и, что важно, впервые у Антона был неоспоримый повод оказаться на «правильной стороне», в числе казаков.
Надо признать обидное для старушки Кирсановой: болезненные прививки офицерским ремнем не больно-то укрепили иммунитет Антона к разнообразным соблазнам, Впрочем, это мог быть и банальный «статистический» сбой: болеют же некоторые ветрянкой и по два, даже по три раза! Так или иначе, но вполне можно было свести наказания к диетической дозе – раз в два месяц, или даже в четверть. Всем от этого могло бы лишь полегчать. В разной, понятное дело, степени: уж больно тяжелой была отцовская рука.
Иногда Антон мечтал стать безотцовщиной
Иногда Антон мечтал стать безотцовщиной, как некоторые мальчишки из школы, только понарошку, на денек – другой, просто попробовать, как это – жить без отца? Отца нет, а удочки, мотоцикл, фотоаппарат, портсигар, ружье охотничье и ремень с портупеей остались.
«А ремень зачем?» – удивлялся он собственным мыслям.
«Чтобы не наглел, чтобы помнил», – отвечал сам себе строго и. восхитительно самокритично. Будь в нем способность себе умиляться, уронил бы слезу, а возможно, и две. Но не тут-то было, вместо этого вспомнил про бабушку.
Если подумать, опасность перехода семейных вожжей в руки охочей до физических наказаний бабули с лихвой перекрывала все возможные преимущества, которые, под таким углом зрения и при ближайшем рассмотрении, представлялись уже сомнительными. По меньшей мере, не такими уж значительными и не очень явными. Мотоциклом Антон так и так управлял, и неплохо справлялся, правда, исключительно когда тот стоял возле дома. Распластывался на бензобаке так, что пробка в живот впивалась, и разбрасывал руки в орлином размахе, иначе до рукояток не доставал. Зато озвучивал «поездку» вдохновенно и убедительно, лучше любого всамделишного мотора. К ружью он относился серьезно, с почтением и опаской – отцовское воспитание. Помнил, что до первого собственного выстрела ему еще расти и расти, а до той поры даже к зачехленному оружию прикасаться не следует. Он, конечно же, был не прочь прикоснуться, но прошлой зимой отца одного из его приятелей искалечили на охоте – в поясницу заряд дроби всадили по неосторожности. Герман Антонович сказал – случайный выстрел, но впечатление осталось пугающее и одновременно гнетущее. К тому же у Антона был свой арсенал, которому иной оружейный барон позавидовал бы. Подумаешь, игрушечный. Все остальное – фотик, портсигар, что там еще? – мишура, не очень для жизни и обязательная. На что, скажите на милость, сгодится тот же портсигар, если нельзя плюхнуть его со стуком на парту и сказать завучу: «На, Ираида, закуривай, не таись!»
Антон видел однажды Ираиду Михайловну через стекло в недалекой от школы кафешке с сигаретой в руке и в компании лысого, дряблопузого химика, обожавшего слово «пикантно» и опыты с кислым запахом. Завуч засмущалась, поймав на себе взгляд мальчишки, и мигом, нервно, – а ученик замер, вылупился, смотрит во все глаза, ничего не упустит – сигарету отбросила, вроде как нет ее. Этот подмеченный, подаренный случаем чужой секретик был явно полезен, Антон это чувствовал, но, чистая душа, представления не имел, как им воспользоваться, где и к чему применить. С трудом одолел искушение раззвонить новость о грехопадении строжайшей из строжайших по всей школе, сохранил ее для себя, про запас, на всякий пожарный и в такой глубочайшей тайне, что даже своему лучшему другу Саньке – ни-ни. Хотя поделиться подмывало невероятно, даже прыщ на языке вскочил, и Антон приписал его собственной сдержанности. Потом надолго забыл об этой истории.
По мере взросления память будет от случая к случаю возвращать его к витринному стеклу той кафешки, побывавшей за минувшие годы и пельменной, и пирожковой, а на старости произведенной в шашлычные. Зачем? К примеру, чтобы рассеять сомнения в том, что учителя тоже люди, а раз так, то и ничто человеческое им не чуждо. Любовь, страдания и, увы, лицемерие. Ни один из школьных учителей не боролся с юными «дымодуями» так жестко и бескомпромиссно, как Ираида Михайловна, она же Выёбла.
На школьном выпускном, куда Антон заявится по старой памяти, будучи гостем, так распорядится судьба, и тоже выпускником, но уже другого учебного заведения, в другом городе, – завуч сама предложит ему за школой «Трезор» из початой пачки с расквартированными внутри спичками и боковинкой коробка – «чиркалкой»; только женщины способны на такое, наверное, от недостатка карманов.
– Ну, Кирсанов Антон, доблестный суворовец в штатском, угощайся. Теперь всем нам можно.
Но Антон к тому времени уже второй раз бросит курить, а про Выёблу узнает, что умерла ее мама и теперь отпала нужда скрываться, прятаться от нее и вечно хрустеть перед домом ненавистными кирпичиками «Холодка», от которого у Ираиды Михайловны случалась изжога. Мама ее, как выяснится, была тяжелым астматиком и больше всего на свете боялась таких же, наследственных, проблем у дочери. Знай она, что дочь курит, хоть и не часто, умерла бы, возможно, гораздо раньше. Антон всерьез подумает о том, что взрослая жизнь не такая уж легкая. Не такая трудная, как у детей и подростков, это понятно, но, скажем так: тоже очень и очень непростая. А еще он решит, что маму Выёблы, несмотря ни на что, жалко. Конечно, всех, кто умирает, надо жалеть, так учили, но эта дамочка, судя по всему, была с большим «прибабахом». Это словечко напомнит, как в пятом классе он задался вполне резонным вопросом – зачем Ираиду так назвали?
«По-нормальному, «Ирки» вполне бы хватило. Ирина Михайловна. – рассуждал пятиклассник Антон Кирсанов. – Вон, Иркиной матери из соседнего дома хватило же? Хватило. Нормальная вышла девчонка, компанейская, по деревьям как кошка лазит. Только изо рта у нее невкусно пахнет, но целоваться Восьмого марта можно с другими, подождать, пока ей цветок подарят, а свой подарить Агаповой. На дне рождения тоже отвертеться от целований можно: сказать, что десна нарывает, или про вирус, или дыхание задержать. Ираида же вся в мать получилась, с «прибабахом», недоразвитая какая-то, тощая. Бабушка про нее сказала: «За обои клопы затащить могут, но, видимо, не интересуются». Класс!» Вдобавок ко всем этим рассуждениям он решил развлечься и попробовал удлинить свое собственное имя, придумать на его основе новенькое, не менее заковыристое, чем Ираида. Метод избрал простой – сложение с прочими известными ему именами. Начал с Юры.
Антонюра вышел на первый взгляд благозвучным, на второй – каким- то дворняжьим, при третьем проявился амбарный душок и отзвук бесконечных деревенских бабьих перекличек. В селе, куда они раз выезжали на лето, днем тетки вот так же не умолкали ни на минуту. Отец сбежал оттуда на третий день, не выдержал. Антон же через неделю запросто распознавал по голосам соседок – Михалну, Никитишну, Петровну и невестку Петровны Катюху. О ней мать говорила «бедовая», и Антон все не знал, как предупредить Катюху о возможной беде. Так до возвращения в город и не придумал. К тому же отец называл свою мать Любаней, и новоявленное имя Антонюра показалось Антону слишком уж близко к бабушкиному, не Бог весть какое счастье. К слову, с точки зрения внука, баба Любаня вполне подходила под свое имя и тщательно мылась каждый день, при этом нещадно расходовала из колонки горячую воду. Колонка была одна на всех. На Антона кипятку еще худо-бедно хватало, а вот мама злилась и выговаривала Любане, в том числе за отца, который, возможно, и не догадывался, стоя под душем, что вода бывает горячей, потому что был, во- первых, закаленным мужчиной, а во-вторых – примерным сыном. Бабушка говорила маме в ответ, что это единственная радость, оставшаяся ей в жизни, то есть безбожно врала! В спальне бабули стоял сундук, в который Антону запрещалось лазать. Он и не лазал, потому что сундук запирался на ключ, и ничего другого не оставалось, как только принюхиваться к щели под крышкой. Пахло из сундука предупреждением «не лезь!» Так мальчишечье обоняние расшифровало полученный носом сигнал. Тем более чертовски захотелось хоть одним глазком глянуть, что там внутри, но ведь замок.
За Антонюрой последовал забористый Антонтоля, которого никак не получалось выговорить без запинки, поэтому он и трети раунда не продержался. Про Антоникиту творец решил, что звучит это имя складно, но длинновато, напоминая название для лекарства. Так сказал Шурка Фишман, а друг и сосед Санька решил, что больше похоже на средство для потравы мышей. Поскольку и сам Антон не восторгался своей творческой находчивостью, дружба выдержала испытание.
Дальше Антон не продвинулся, но все равно вполне мог собою гордиться. Я бы, наверное, находясь в зрелом возрасте и трезвом уме, завис на старте, да так бы там и остался, фантазии не хватило бы завестись. Что поделаешь, детство тоже имеет свои преимущества, причем много и разных. Только двух не хватает: детство не наступает и долго тянется. А старость наоборот.
Короче, поразмышлял Антон о временной безотцовщине, и отец, ни сном ни духом не ведавший о нависшей над его головой отставке, был по- тихому восстановлен в отцовских правах. Реабилитирован. Последним обстоятельством, сыгравшим Герману Антоновичу на руку, а в данном случае уместно даже сказать – решившим его отцовскую судьбу, было то, что ребят из неполных семей учителя и другие родители за глаза жалели, а Антону Кирсанову жалость претила.
Собачье чувство
– Собачье чувство эта ваша жалость. Претит. И вообще, запомните наконец, салабоны, что хороших чувств на букву «ж» не бывает, – с подначкой подучивали несмышленых, вроде Антона, «бывалые» парни из дворовой компании.
– А если жрать хочется? – задал вопрос самый мелкий из слушателей.
– Какой-то ты, чувак, неблагополучный, – сообщили ему. – Не жрать, а кушать. Ку-шать! Усвоил? И заруби себе на носу, жрут собаки.
Так мелкому был преподан урок родной речи, сопровожденный для лучшего усвоения смачной оплеухой. Он, скорее всего, в тот же миг пожалел, что рано покинул песочницу. Иначе с чего бы еще расплакался?
– Хавать… Хавать тоже можно, не только кушать, – смилостивились другие старшие над ревуном, и тот сразу успокоился. Ему понравилось. По глазам было видно – навсегда запомнил, что хавать тоже можно.
– Веришь? – задали ему контрольный вопрос.
Антон, нутром чувствуя, что это подвох, отвлек мелкого, окликнув по имени, и тот оглянулся, так и не кивнув.
– Во-от. А-а! Настоящий пацан, – похвалили мелкого «ветераны». – Не верь, не бойся и не проси! – одарили его еще одной мудростью, на этот раз подхваченной всеми без исключения учениками, но Антоном Кирсановым в первую очередь.
Если б он мог, то отнял бы эти слова у всех и у каждого, или выменял на что хочешь, и утащил бы домой, чтобы больше никто, нигде, никогда не произносил их вслух. Кроме него. Только так можно было наслаждаться единоличным знанием правил жизни. «Круто зацепило», оценил бы все тот же подростковый наставник, родись он тридцатью, примерно, годками позже. Потом наваждение отошло, как пятно от черешни на белой рубашке – не полностью, но если не присматриваться, то можно и не заметить.
Уже дома Антон, шепотом раз за разом повторяя услышанное, окончательно развеял придавившие его поначалу чары.
– Не проси. – произнес он.
«Это правильно, – подумал вслед. – Тем более, что и выходит фигово, особенно с бабушкой». Но поскольку взять что-либо без спросу он не мог, не рискуя быть пойманным и наказанным, то решил заменить чересчур размашистое и однозначное «не проси» на взвешенное «не выпрашивай», то есть по-своему угомонил задиристое правило. Его отчасти смутил ущерб, нанесенный поправкой ритму всей формулы, в первоначальном звучании наводившему на мысли о клятвах или заклинаниях. Но распространять обновленное изречение он не собирался, а для себя рассудил: «сойдет с ботиками». Так мама говорила о чулках, прохудившихся и заштопанных на носке или пятке.





