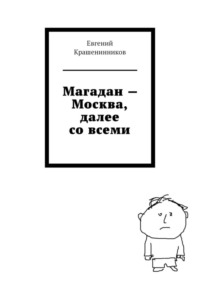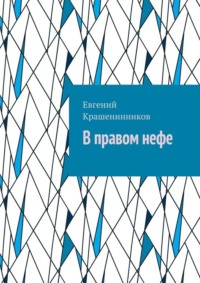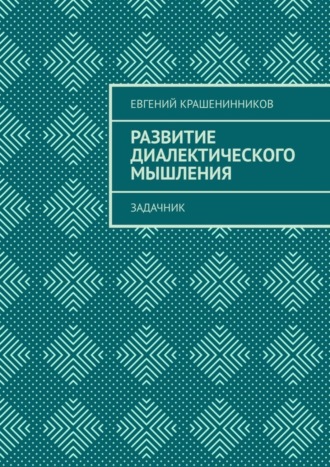
Полная версия
Развитие диалектического мышления. Задачник
Понимать, что старший школьный возраст не является оптимальным для построения целостных программ развития диалектического мышления. Вообще, проблема эффективности развития диалектического мышления в разных возрастах изучена ещё недостаточно. Можно уверенно сказать, что развитие диалектического мышления у дошкольников высоко продуктивно, так как оперирование противоположностями является для них естественным, потому что базируется на отсутствии чувствительности к противоречию. Уже в младшем школьном возрасте всё не так однозначно. В младшем школьном возрасте (при хороших условиях) в ходе овладения учебной деятельностью как ведущей формируется учебная потребность и происходит становление теоретического мышления (анализа, планирования, рефлексии). Но теоретическое мышление может вступать в противоречивые отношения с диалектическим; если формируемые понятия базируются на формальнологической основе, то при всей полезности и необходимости теоретического мышления, оно становится стопором для творчества и создания нового. Если диалектическое мышление помогает активизации формальнологического, то в обратную сторону этот механизм не работает. Пожертвовать развитием теоретического мышления нельзя, ибо в более позднем возрасте будут упущены возможности начальной школы, когда ребёнок был открыт к новому содержанию. Подростковый и старший школьный возраст, похоже, ещё менее пригодны для целенаправленного и целостного развития диалектического мышления. Новые появившиеся потребности (связанные с полоролевой успешностью) и новые социально поощряемые цели (связанные с профессиональным самоопределением, нацеленным на перспективу), наслаивающиеся на уже сложившееся отношение к миру как закономерному и однозначному, вызывают максимальное сопротивление школьника при решении задач с неизвестным результатом и неочевидной полезностью. Казалось бы, внешние и внутренние изменения подросткового возраста могли бы быть продуктивной почвой для погружения в развивающееся, изменчивое содержание; но у подростка уходит много сил на эту перестройку самого себя и всей системы взаимоотношений, что требует очень аккуратного, хорошо просчитанного предложения дополнительного лабильного содержания, чтобы не увеличить возрастную невротизацию. А вот перемещение в новую ситуацию обучения в высшем учебном заведении опять создаёт благоприятную развивающую ситуацию для диалектического мышления. Молодой человек готов к тому, что новая форма обучения будет отличаться от школьной; множественность предлагаемых по одной учебной дисциплине учебников, излагающих разные концепции, является видимым знаком новизны ситуации. Поэтому именно в этом возрасте (или в этой новой социальной ситуации) логично предлагать программы развития творческого, продуктивного, диалектического мышления, что и нашло отражение в разрабатываемой в рамках структурно-диалектического подхода технологии позиционного обучения. На позиционных семинарах малые группы анализируют текст с заранее заданных содержательных позиций (понятие, схема, тезис, оппозиция, апология, символ, практика, здравый смысл и т.п.); а на общем обсуждении организуется взаимопроникновение позиций, взаимообогащение.
Когда идеи структурно-диалектического подхода стали применяться в процессе обучения и была разработана технология позиционного обучения студентов (позже применяемая в экспериментальном режиме и в средней школе), возник вопрос: насколько возможно развитие диалектического мышления (а, значит, и выстраивание методически проработанного пространства) при работе с формальнологическим содержанием. На позиционных семинарах участникам предъявлялись тексты (лекция, отрывок монографии, статья), которые требовалось понять, так как их реальный смысл не был предъявлен напрямую: это могли быть тексты, в которых описывались взгляды учёных, с которыми соглашался или не соглашался автор текста; это были тексты, в которых вводилось новое научное понятие (при этом могло использоваться уже существующее в языке слово, которое насыщалось новым смыслом); могли предъявляться тексты, описываемое в которых явно расходилось с опытом обучающихся и т. п. Вся работа велась, во-первых, с текстами научными, во-вторых, относящимися к психологии (то есть гуманитарной направленности). Именно поэтому оставалось дискуссионным: 1) можно ли разворачивать позиционный анализ вокруг не научного текста: например, главы учебника или некритично написанной монографии, сомнительной с точки зрения предъявления доказательств результатов и выводов; 2) можно ли разворачивать позиционный анализ вокруг текста из области точных или естественных наук (в котором выводится математическая формула, описываются экспериментальные процедуры обнаружения явления и т.п.). В пилотной режиме в школе были проведены серии занятий, в которых производилось обсуждение не научных текстов (учитывая возраст школьников); диалектическое обучение в виде позиционного анализа на уроках математики, физики или химии не апробировалось. И в этом отношении важно понять, возможно ли позиционное или иное диалектическое обучение и при построении занятий на основе содержания, в котором все взаимосвязи явлены, одно вытекает из другого, логика следует закону непротиворечия.
На обсуждаемых модельных уроках хорошо проявилась продуктивность способа работы, при котором, чтобы понять явление, нужно было сделать выбор и отнести его к одному из противоположных классов А или не-А (например, описание структуры персонажей на модельном уроке №1, соотнося их с понятием «любовь»). Но это были уроки по гуманитарному предмету. Если в химии металлы и неметаллы имеют чётко оговорённые свойства, а в математике простые числа отличаются по однозначным признакам, то задание такого типа становится, быть может, непродуктивным, формальным, даже неуместным, так как однозначный правильный ответ подразумевается сам собой. Остаётся вопрос: является ли подобное содержание основным в математике, физике или же можно обнаружить много тем, где возможно применение позиционного анализа как технологии диалектического обучения. В дошкольном возрасте все эти свойства «открываются» детьми, поэтому различий между химией для дошкольника и философией для дошкольника нет. С возрастанием знаний всё больше становится схем, формул, правил, которые можно напрямую применять для оценки содержания, ответов на вопросы, формулировок выводов. Если темы касаются открытия каких-либо явлений, когда изучаемое содержит либо дискуссию между оппонентами, либо внутреннюю дискуссию, в которой преодолеваются стереотипы и «сопротивление материала», позиционный анализ возможен. Но это же содержание научно-историческое – по сути, гуманитарное. Тогда пространство развития диалектического мышления в том же старшем школьном возрасте ещё больше сужается.
В процессе сравнения двух анализируемых уроков по истории, построенных на материале одного параграфа, можно обнаружить варианты проблемной ситуации. Второй урок отличался от первого тем, что требовалось совершить действие; при этом не важно, что действие разворачивалось не в реальных исторических условиях Смутного времени; это всё равно было социальное действие, совершаемое перед всеми; внутренний выбор (определение кандидата, как достойного моего голоса или недостойного) также был реальным, так как обнаруживал личное отношение к событиям. Такой вариант проблемной ситуации привносит в решение задачи личностный смысл; вернее, в процессе решения как раз личностный смысл и формируется. На уроке, как мы отмечали, присутствовали учителя из разных классов гимназии – участники семинара; когда единственным сформулированным и высказанным вслух основанием голосования за царя Бориса Годунова оказалось то, что он уже царь, так пусть им и будет, кинетическая реакция учителей была заметна сразу. Но и школьники (в том числе и тот, который произнёс формулировку) мгновенно ощутили странность происходящего; возникла пауза и смущение, и из этой неловкой ситуации попытки выхода были явственны: школьники попробовали перевести разговор на другое, а не завершить обсуждение, так как голосование же уже прошло.
Для педагогов возникшая пауза часто является трудным местом урока: раз дети молчат, значит, им нечего сказать; раз педагог молчит, значит, он плохо подготовился; в паузе теряется динамика урока, дети начинают отвлекаться. При этом в любой другой деятельности изменение динамики, чередование активности и пассивности является как раз способом увеличения напряжения (в театральной постановке, построении симфонии или футбольном матче). Пауза не просто даёт возможность отдохнуть – в ней вызревает новый выброс энергии. Поэтому пауза на уроке в виде чтения параграфа или решения задачи по изученной формуле после бурного обсуждения не является паузой в описанном смысле. А пауза, в которой разворачивается напряжённая мыслительная деятельность, минута тишины для того, чтобы подумать, молчание, которое является свидетельством кризиса в решении задачи, – такая пауза становится продуктивной; её возникновение в процессе урока – «лакмусовая бумажка» того, что процесс мышления идёт, так как он всегда переосмысление старого опыта, отказ от него и обнаружение нового, того, что раньше казалось бы странным и неправильным.
Ещё раз остановимся на вопросе, насколько выделение противоположностей является объективным. Если странность и непривычность объекта являются следствием несоответствия ожиданиям, то не является ли этот процесс всего лишь субъективным восприятием мира; а тогда и сами противоположности становятся эфемерными допущениями, и их опосредствования не могут служить реальному разрешению сложной ситуации. Но, во-первых, непривычность и странность – лишь маркеры ситуации, в которой надо ещё только обнаруживать противоположности; само непривычное ещё не есть то содержание, которое потом будет подвергаться опосредствованию, замыканию или отождествлению. В этом странном и непривычном нужно будет выявить скрытые существенные стороны, и они являются существенными только в том случае, если мы относимся к нашему прежнему опыту (который сейчас подвергается сомнению, «остранняется»), как к объективному, неслучайному, как к опыту реального видения существенных отношений. Если наш опыт хаотичен и субъективен, то как раз в этом случае не возникнет ничего непредвиденного или странного: все элементы равны, всё возможно. И это не приводит к восприятию уникальности мира; наоборот: любой элемент становится взаимозаменяемым, то есть несущественным, теряет свою привлекательность.
Одним из свойств развитой, самоактуализированной и самоактуализирующейся личности является свежесть восприятия окружающего мира. Здоровый человек не относится даже к постоянно повторяющимся событиям, как к привычным, обыденным; он может как радоваться каждодневно происходящим явлениям (эта радость не обязательно должна бурно выражаться; речь идёт о внутреннем состоянии), так и наслаждаться физическим здоровьем, дружбой, политической свободой как процессами, наличие которых не гарантированно не только другим, но и в его собственной жизни. Такое свойство характерно для детей; и оно, как и другие характеристики, связанные с творческой реализацией, исчезает в процессе взросления. Это происходит, в первую очередь, вследствие погружения в систему целостного обучения, в которой мир предстаёт как изученный, законченный, открытый, а не изучаемый, открываемый. Научные открытия уже есть явления прошлого; и новые технические ил научные достижения предстают перед детьми уже в виде результатов (а сама длительная и сложная деятельность по их созданию или обнаружению остаётся скрытой). Аналогичная ситуация и в отношении обилия технических новинок: например, средства записи звука и размещение его на носителях за последние сорок лет сменились минимум шесть раз; период мгновенного фотографирования на аппаратах системы «Полароид» уже неизвестен детям, хотя родители им активно пользовались. Отсюда возникает ощущение того, что все эти изменения закономерны (что справедливо) и происходят как бы само собой; ребёнок не понимает бабушку, которая удивляется, как он, трёхлетний, пользуется пультом дистанционного управления, не говоря уже о системах, в которых появление содержания обусловлено проведением пальца по экрану. В этом логичном и необходимом процессе начинает теряться то важное для развития человека и его дальнейшей жизни чувство удивления при взаимодействии с внешним миром. А именно развитие диалектического мышления, существенным следствием которого является нацеленность на поиск нового и его создание, помогает сохранению данного качества. В этом есть некоторый парадокс: чем больше ты сталкиваешься с процессом создания нового, тем больше оно воспринимается как выходящее за пределы обыденности, привычного порядка вещей.
Ещё одно важное свойство заключается во внимании к смешному. Смешное всегда является нарушением привычного порядка вещей; но, значит, смешное должно всегда сопровождать и научный поиск (который также разрушает этот порядок; создавая новое, учёный всегда оказывается в ситуации несогласия не только с предшественниками, но и с ныне живущими коллегами); смешное должно сопровождать и процесс живого мышления. Если изучение математики, физики или истории происходит, пользуясь образом В. П. Аксёнова, «со звериной серьёзностью», то возникает подозрение, что на таких уроках не происходит ни поиска, ни реальной дискуссии, ни настоящего мышления. При этом задание «представить объект смешным», предлагаемое О. А. Шиян для дошкольников, является очень жизненным в любом возрасте: выставить противника в смешном виде, чтобы не бояться его («Боевые киносборники» времён Второй мировой войны); написание пародии на известное и серьёзное произведение («Крокодил» Ф. М. Достоевского, творения Козьмы Пруткова или обэриутов, роман Гривадия Горпожакса «Джин Грин – неприкасаемый») или на систему правил (кружок «Арзамас», в который входили В. Л. Жуковский и А. С. Пушкин); обострение научной гипотезы (знаменитые сборники «Физики шутят» и «Физики смеются»). И в отношении понимания диалектических структур смешное является плодотворной почвой. Авторы, изучавшие комическое (А. Бергсон «Смех», М. М. Бахтин «Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», Д. С. Лихачёв и А. М. Панченко «Смеховая культура древней Руси» и др.) обращали внимание на парадоксальность ситуации, создаваемую комическим; на отрицание существующих правил и смену их на противоположные. Поэтому использование комического и смеха становится развивающим диалектическим пространством.
В рамках структурно-диалектического подхода регулярно возникали дискуссии о том, является ли диалектическое мышление для его конкретного носителя способностью решать задачи, которая начинает работать уже после того, как исчерпаны другие средства, или же человек, обладающий им, применяет диалектические мыслительные операции вне зависимости от того, можно ли решить задачу более привычным способом. При диагностике диалектического мышления с помощью методик, в которых требовалось предложить несколько ответов на одно задание («Сказочные истории» И. Б. Шияна – «Принцесса», «Золотая рыбка»; «Что может быть одновременно» Н. Е. Вераксы; «Необычное дерево» Н. Е. Вераксы в модификации Е. Е. Крашенинникова), исследователи временами обращали внимание на порядок появления диалектических ответов. При этом не было обнаружено твёрдых закономерностей: так в процессе придумывания способа помочь принцу освободить принцессу диалектический ответ, основанный на диалектическом мыслительном действии превращении (спилить дерево) или смене альтернативы (подставить лестницу к окну принцессы), возникал обычно не раньше третьего варианта, а необычное диалектическое дерево (опосредствование – пень, тень дерева; или превращение – дерево вверх корнями) могло появляться первым (тем более что в изначальном варианте методики испытуемым предлагалось нарисовать всего один вариант необычного дерева). Так как у школьников диалектическое мышление перешло в латентную фазу, потенциальную, то при наличии значимой для них задачи специально сконструированная ситуация невозможности найти решение с помощью привычных, формальнологических способов провоцирует на применение других способов мышления.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.